За интересною беседою мы почти не заметили как прошли огромный переход до развалин Тарашек. Утомившиеся лошади, почуяв воду, увеличили шаг, и через четверть часа около колодца с мутною водою мы остановились на ночлег. Колодцы Тарашек крайне бедны водою, имеющей при этом соленый вкус. Огромные стада баранов ютятся около них, нарушая однообразие пустыни. Присматриваясь к чабанам, их типам и костюмам, невольно вспоминаешь библейские картины. Та же жизнь, те же условия, ни в чем не изменившиеся и остающиеся такими же, как и три тысячи лет тому назад. Около глубоких колодцев толпятся люди, бараны, козы и верблюды. Со скрипом на волосяной веревке вытягивают в кожаном ведре мутную воду из колодца, и у всех людей и животных разом начинают одинаково блестеть глаза. Всех от их сонного состояния пробуждает та страшная сила, которая называется жаждою.
Расположившись на разостланных бурках, мы с нетерпением следили за приготовлением шашлыков, которые на длинных железных палках тут же невдалеке поджаривал на огне наш джигит. Душистая жирная баранина издавала аппетитный запах, разносившийся вокруг. Целая стая 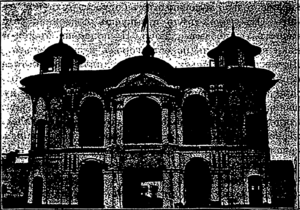 Новый дворец афганскаго эмира Хабибуллы в Кабуле поджарых огромных овчарок, соблазняемая аппетитным запахом, улеглась около костра, терпеливо выжидая подачки.
Новый дворец афганскаго эмира Хабибуллы в Кабуле поджарых огромных овчарок, соблазняемая аппетитным запахом, улеглась около костра, терпеливо выжидая подачки.
— Хорошая это штука шашлык, — заговорил казачий есаул, беря на кончик ножа поджаренный кусок баранины. — Без него здесь просто беда. И вкусно, и хлопот с таким кушаньем никаких нет, да и вино как-то особенно хорошо пьется. Как наперчат основательно, так, поевши его, можно ведро вина выпить…
— А как, вообще, сильно здесь пьют? — спросил доктор.
— Без этого здесь нельзя… По нашим стоянкам только и можно этим бодрость духа поддержать. От людей ведь отвыкаешь совершенно, по нашим трущобам сидючи. Ну попадешь в кои-то веки в какой ни на есть город и запутаешься… Да так запутаешься, что сам удивляешься потом и спрашиваешь: «Батюшки, да неужели все это я самолично натворил?» И не веришь иногда — думаешь товарищи в шутку рассказывают… А там глядишь, — шутка-то плохая выходит… Пройдет несколько времени, как и бумага от подлежащего начальства пришла… И все это в ней как на ладошке выложат… Стоишь потом как дурак перед командиром и конфузно очень… Ведь иному молодцу под пятьдесят — борода седая, а понаделал делов, что молодому впору… А про молодежь и говорить нечего… Как попадутся им гроши в руки, все равно как с цепи сорвутся, тут уже пойдет дым коромыслом… Заберутся хоть бы в Мерв либо в Самарканд, так пока до копейки не пропустят, колобродят напропалую. Главное, каждый на руку скор… Выйдет что, — сейчас либо за шашку, либо за кинжал, а то и за револьвер… Однажды в цирке такую пальбу открыли — просто беда. На грех виноватого-то пуля не нашла, а правый подвернулся да на тот свет и угодил. Ну, и пропало разом двое: и тот кто стрелял, и тот кто под пулю подвернулся. — Один к царю небесному пошел, а другой царю земному золото на рудниках добывать послан был… Другой раз расходились да спьяна на вокзале из орудия выпалили… Хорошо, что никому вреда не было… Теперь куда тише стало. Размах меньше — да и начальство препоны ставит. Прежде, как стояли в городе: нет ни цирка, ни театра… Соберется публика у кого из холостых, а то в своей офицерской столовой, и как выпьют хорошенько — сейчас же в кукушку играть начнут. Любили страсть эту игру.
— Что это за кукушка, есаул? — снова спросил доктор. — Карточная игра какая-нибудь?
Есаул так и прыснул от смеха…
— Кукушка?.. — переспросил он через минуту, отбрасывая далеко от себя обглоданную кость. — Это, я вам доложу, преинтересная игра, у кого только нервы крепкие… Обыкновенно для этого выбирается какая-нибудь большая постройка. Сарай, что ли, либо конюшня пустая, — и вот человек десять забираются туда ночью, причем у каждого револьвер в руках да патронов запас хороший… Погасят огонь и разбредутся по всему помещению… Ну, там каждый что найдет, бочку ли, ящик, а то и и другую какую штуку, да за нее и схоронится… А один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: «Ку-ку…» Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: «Ку-ку». А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушиваешься и снова: «Ку-ку». Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: «Погоди, проклятая, вот уж следующий раз я тебя как следует срежу». Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается.
— И что же, неужели такая игра кончалась благополучно всегда? — возмутился взволновавшийся доктор.
— Какое там благополучно, — успокоительным тоном ответил рассказчик. — Всяко было… Раз, я помню, такая неудачная кукушка была, что хорунжего нашего разом ухлопали, десятка выстрелов не сделавши. Еще поручика подстрелили, фамилии его не помню, знаю, что стрелковый был… Так тогда чуть не всю ночь напролет палили, а только под утро, когда устали все, то слышим: «Ой». Зажгли огонь, смотрим, руку прострелили поручику… И ничего, зажила рука.
— Ну и нравы у вас тут были… — нервно разсмеялся доктор К. — Вы как будто об этом с каким-то особым удовольствием вспоминаете. Просто страшно становится. Ведь таким образом ни за грош человека на тот свет отправить можно…
Что ж, и это бывало, а только я вам скажу, кажется, дикая игра, но она владеть собой приучала… Посмотришь, иной молодец во всем принимал участие: и в историях разных, и в кукушку играл, и на тигра ходил… И вырабатывался таким, что нервы, как веревки. Первый человек потом на войне оказывался. Смейтесь себе, а я все же скажу, что и эта бесшабашная удаль послужила на пользу, воспитывая тот дух, которым отличались всегда туркестанские войска… Вот вы осуждаете кукушку… А ведь на ней самой воспиталось целое поколение туркестанских офицеров в сознании, что жизнь — копейка, и поэтому эти сорванцы потом и выказывали, когда нужно было, чудеса храбрости… Всему свое только время…
Ночь между тем наступила. Без сумерек, почти разом с заходом солнца настала тьма и в небе ярко заблестели звезды. Полная тишина царила в пустыне, лишь изредка нарушаемая жалобным воем шакалов. Издали этот вой напоминал собою жалобный плач детей и своими за сердце хватающими нотами действовал на нервы, наводя тоску. Глухо ворча, порою поднимались собаки, почуяв приближение какого-нибудь зверя. И снова наступала тишина, в которой как будто чувствовалась какая-то неведомая, могучая сила. Казалось, что все в пустыне спит крепким сном, чутко прислушиваясь к этой тишине. Освещая небольшое пространство и как будто борясь с окружающей темнотою, ярко блестел огонек костра, около которого мы расположились спать на разостланных бурках. Горячий песок, не остывавший на ночь, и душно-теплая атмосфера ночи делали сон тревожным. Лишь привычные к здешним условиям наши джигиты-туркмены да казачий есаул, вполне освоившийся с жарами, спали как убитые. В стороне темнели развалины Тарашека — небольшой крепости, принадлежавшей какому-то афганскому хану. Стаи летучих мышей сновали взад и вперед и, пролетая над огнем костра, долго кружились около него в воздухе. Не будучи в состоянии заснуть, я поднялся и направился ближе к костру, невдалеке от которого устроились наши джигиты. Огромного роста седобородый туркмен Берды-Мурад-Сердар не спал. Облокотившись на седло, он полулежал, подостлав под себя кусок белой кошмы. Заметив мое приближение, он привстал и, в знак почтения погладив рукою свою седую бороду, приложил руку к папахе.
— Не спит бояр? — спросил он меня, опускаясь по моему приказанию снова на кошму. — Воздух пустыни для тебя слишком горяч и затрудняет поэтому дыхание. Аллах премудр, своею мудростью предвидел он все и поселил в этих странах народ, который не боится солнца. Хотя бояр через год также легко будет переносить лучи нашего солнца, как и мы.
Присев около огня, я с большим интересом начал всматриваться в его своеобразно красивое лицо, на котором лежал отпечаток мысли и замечательного спокойствия. Темные глаза его смотрели твердо и в то же время внимательно. По всему видно было, что это богатырь и по физической силе? и по духу.
— Ну что, сердар, — спросил я его, чтобы начать разговор, — ты уже давно живешь на свете, значит, видел войну, а, может быть, и сам сражался против русских войск…
— Был и я, бояр, со всеми, — сильно досталось нам тогда от генерала Скобелева. Хорошо и мы рубились, но все же у царя такое войско, что нет ему равного во всем мире. Зато с тех пор везде тихо, хорошо стало… Может, кто хочет землю обрабатывать, стада держать, никто не отнимет… Кто что имеет, другой взять у него не может. Хорошо теперь, бояр. Плохо только тем из нас, кто не привык работать. Кто всю свою жизнь в аламан (набег) на персов ходил, тем трудно. Но и для таких царь дивизион (туркменский конно-иррегулярный) устроил. Кто хочет в войске служить, — поступай пожалуйста, двадцать пять рублей жалованья царь дает. И работы мало…
— И все ваши довольны, — спросил я, услышав такой лестный отзыв.
— Ну где, бояр, все? есть которые недовольны… Кто недоволен, в Персию, в Хиву, в Афганистан ушел. А только там куда хуже, чем здесь. Хороший человек из наших не уйдет со своей земли; а такой, с дурной душой, пусть уходит. Его нам и не нужно. Главное, душа чтоб у человека хорошая, тогда он и сам хорош, — закончил он свои рассуждения.
— Я тебе, бояр, по этому случаю расскажу историю, которую я слышал об одном человеке с хорошей душою, но некрасивым телом.
На минуту он задумался, соображаясь с мыслями, и затем, откашливаясь, начал.
«Давно-давно тому назад, в далекие прошедшие времена, жил славный эмир Шаруан. Много уже лет правил он своими подданными, жившими на огромном пространстве его государства. В управлении царством ему помогали всей душой преданные ему верные и мудрые семь визирей.
Огромное царство Шаруана для удобства управления разделялось на несколько областей, причем начальником самой обширной из них был хан Зюфар, славившийся своим умом и замечательною добротою, за которую в особенности любил его народ, не знавший, что главным распорядителем в области был, в сущности, не Зюфар-Хан, а его ближний советник Мардамбаз. Этот же последний по своей внешности отличался тем, что был очень маленького роста и вдобавок к тому же очень некрасив, причем его особенно портила громадная голова и хромота на левую ногу. Однако, все эти физические недостатки стушевывались чудным ласковым выражением его больших темных глаз, в которых виднелась безмерная доброта и светилась справедливость.
Зюфар-хан никогда не выходил из под влияния справедливого Мардамбаза, и поэтому управление областью было отличное. Суд для всех был одинаково справедливый, подати собирались в не обременительном для населения количестве, и народ поэтому богател, прославляя Аллаха, даровавшего ему такого мудрого правителя; но, к несчастью, недолго продолжалось это счастливое время для народа и для Мардабаза. Все несчастья начались с того дня, когда Зюфар-хан потерял свою любимую жену и, не будучи в состоянии выносить тяжелого одиночества, вновь женился на молоденькой и очень красивой девушке. Это был первый день несчастья, с которого все пошло вверх дном. Разом забросил он все дела по управлению областью, и начались пиры и гулянья, следовавшие одни за другими без перерыва. Казалось, начался сплошной праздник. Представленные самим себе сборщики податей, казии, аксакалы быстро стали богатеть, а народ, обремененный налогами, впадал в нищету. Все разом пошло по-иному, и на слова мудрого советника не обращалось уже никакого внимания. Мардамбаза сначала тревожили новые порядки, но наконец он тоже бросил все, сказав себе: «Пускай глаза мои больше не видят ни разорения народа, ни теперешнего порядка управления и ни самого Зюфара-хана, так низко павшего и делающего все в угоду жене. Правитель, не отходящий от жены, не заслуживает любви и уважения. Лучше гораздо, если я уеду отсюда куда-нибудь подальше».
Недолги были его сборы, и хотя у Мардабаза была семья, состоявшая из жены, сына и двух дочерей, но, окончательно решив уехать, он объявил им о своем решении. На предложенный вопрос их, куда же он предполагает ехать, Мардамбаз, задумавшись, долго не мог ответить и решить, куда направиться, но наконец, собравшись с мыслями, он сказал: «Так как состояния у нас нет, и мы жили все время на мое жалованье, то мне и теперь нужно будет снова поискать себе какую-нибудь службу, причем мне кажется, что подходящее для меня место вернее всего можно будет найти в том городе, где живет славный эмир Шаруан, да продлит Аллах его жизнь на сто лет».
Не откладывая в дальний ящик своего решения, Мардабаз со всей своей семьей скоро переехал в столичный город, где остановился в караван-сарае и, написавши прошение эмиру, в котором подробно описал свою прежнюю службу и причины отъезда, отправился в тот же день во дворец повелителя правоверных.
Дворец славного эмира Шаруана состоял из нескольких громадных каменных зданий, богато украшенных различными лепными орнаментами в восточном стиле. Двери и окна его были облицованы кирпичами с яркою цветною эмалировкою и надписями из корана, а у входа везде стояла многочисленная стража. У наружных дверей дворца Мардамбаз был остановлен начальником стражи, который спросил его, кто он такой и что ему нужно от великого и славного эмира. Мардамбаз в ответ передал ему прошение с просьбою передать таковое эмиру, а сам присел у входа, ожидая решения.
Славный эмир Шаруан находился в то время в зале совета. Окруженный своими семью визирями, обсуждал он важные государственные дела, когда начальник дворцовой стражи, войдя в залу, с поклоном передал ему прошение Мардамбаза. Прочитав прошение и спросив начальника стражи где находится проситель, он приказал позвать его тотчас же пред свои светлые очи. Пораженный великолепием дворца, Мардамбаз тихо высказал свои приветствия царю и его визирям, но не успел их окончить, как царь рассмеялся, а ему стали вторить и все визири. Смех этот был вызван смешной фигурой Мардамбаза, что, не скрывая, высказал тут же царь: «Не удивительно, однако, если Зюфар-хан перестал тебя слушать, — заговорил наконец царь, оправившись от смеха, — вероятно, он и никогда тебя не слушал, и ты, может быть, был у него не советником, а шутом».
Долго потешались все над бедным Мардамбазом, но прошел час смеха и настало время благоразумия; но и тогда Щауран все еще посмеиваясь, предложил визирям назначить испытание бывшему советнику Зюфар-хана. Посоветовавшись, те предложили сделать его дворцовым караульным, причем решили, что если он будет исправно нести свои обязанности, выдавать ему жалованье по одно тилли в месяц; если же когда-нибудь, все равно днем или ночью, царь позовет Мардамбаза и тот на первый же зов не отзовется и не явится, то за это казнить его смертью. Услышав это решение, Мардамбаз обрадовался и тут же вступил в исправление своей новой должности.
Служит Мардамбаз месяц, другой, третий, полгода, и все идет у него благополучно; но вот как-то к концу почти шестого месяца его службы ночью царь увидел сон; снится ему женщина в ярко-красном одеянии, очень красивая, с черными распущенными ниже пояса волосами и с черными пронизывающими насквозь огромными глазами. И испугался великий эмир этого взгляда…
„Ты через пять дней заболеешь, эмир, заговорила женщина, а после окончания болезни тебя постигнет большое горе — тебе изменит твоя жена.
Но и на этом не окончатся твои несчастья: тебя лишат всех твоих богатств; ты потеряешь свое царство и, наконец, в этом же году ты умрешь, претерпев перед этим массу всякого рода лишений“.
Эмир под влиянием этого ужасного сновидения в страшном испуге проснулся, быстро встал с постели и, одев халат на себя, подбежал к окну, растворив которое, позвал Мардамбаза. Тот в ту же минуту явился.
— Что прикажете, государь? — спросил он, входя в комнату.
— Я видел сейчас ужасный сон, — сказал в ответ встревоженный эмир Шаруан. — Не можешь ли ты, Мардамбаз, растолковать его мне?
— Могу, — ответил Мардамбаз, — пусть повелитель расскажет, что нарушило спокойное течение его снов.
Но только эмир приступил к рассказу, как послышался с улицы страшный крик о помощи. Голос, по-видимому, был женский.
— Позволь, повелитель, — сказал Мардамбаз, — я сначала схожу и помирю ссорящихся, это, вероятно, кричит какая-нибудь жена, побитая своим мужем, а потом, когда приду обратно, не торопясь, объясню виденный сон.
— Хорошо, — сказал эмир, — иди и успокой ссорящихся, а то, правду сказать, при таком крике все равно невозможно разговаривать и к тому же я, как правитель, должен позаботиться сначала о своих подданных, а потом о себе.
Выслушав приказание, Мардамбаз вышел, а эмир одевшись потеплее, направился следом за ним в некотором от него расстоянии, чтобы Мардамбаз не мог его заметить.
Мардамбаз, выйдя из дворца, почти побежал по направлению крика и увидел быстро направлявшуюся женщину, которую и догнал наконец в одной из ближайших улиц. Остановив ее, он начал расспрашивать о причинах крика. Эмир же остановился вблизи них за углом дома. Остановленная женщина была в ярко-красной одежде, очень красивая, с черными распущенными ниже пояса волосами. Эмир Шаруань, взглянув на нее, сразу узнал в ней женщину, которую он только что видел во сне, и страх снова разом овладел им.
— Что ты так кричишь, кто ты такая, и кто тебя обидел? — заговорил Мардамбаз. — Расскажи мне все откровенно; не бойся, ты можешь верить, что я могу помочь тебе, так как я посланный эмира.
— Эмира? — смеясь переспросила его красавица вместо всякого ответа. — Да знаешь ли ты, — продолжала она, — что царю твоему и самому-то осталось царствовать не более пяти дней?.. Он заболеет, этим воспользуются мятежники, которые и сейчас совсем готовы; они лишат его царства и богатства и, испытав массу всяких лишений и неприятностей, он в этом же году умрет; ты теперь же, не спрашивая меня больше, можешь вернуться и принести эту весть своему царю…
У Мардамбаза подкосились ноги, сердце облилось кровью от слышанного, и в глазах отразилась вся скорбь души его. Стоявшая перед ним женщина походила и взглядом, и осанкой скорее на царицу и уж никак не на просительницу.
— О, женщина, кто бы ты ни была, но ты должна помочь мне, — взмолился Мардамбаз. — Эмир наш вовсе не заслуживает такой страшной кары; он такой добрый, милостивый и справедливый; ты должна посоветовать; ты знаешь, наверно, чем можно предотвратить это несчастье.
Вся уродливая фигура Мардамбаза как бы замерла в мучительном ожидании.
— Если хочешь, — после некоторого молчания сказала женщина, — есть средство, но оно трудно выполнимо, почти невозможно. Дело в том, что нужно чтобы кто-нибудь из доброжелателей или друзей царя принес свою семью и потом самого себя в жертву темному божеству; если такой найдется и сделает все не ради награды и корысти, а от чистого сердца, то бог примет эту жертву и тогда эмир Шаруан останется жив, здоров и будет благоденствовать на своем троне до ста лет. Владения его при этом увеличатся, а богатства умножатся.
Дав этот совет, незнакомка скрылась, как будто расплывшись в окружающих волнах белого тумана, носившегося над городом. Это чудное исчезновение как будто было подтверждением верности ее слов.
Мардамбаз разом принял какое-то решение и, не заходя во дворец, быстро направился к себе домой, где разбудил тотчас же всех членов своей семьи.
Рассвет только что начался. Вся семья его была очень удивлена таким ранним появлением хозяина, но он, тотчас же рассказав им о слышанном предсказании, тут же объявил, что он решил принести себя и всю свою семью в жертву за избавление царя от несчастий, упомянув при этом, что он считает себя обязанным это сделать, так как за такого мудрого и справедливого правителя нужно пожертвовать свою жизнь, но при этом он хочет знать их мнение, так как жертва эта будет принята Аллахом лишь при том условии, если все члены семьи изъявят на то добровольное согласие.
Мать, сын и две дочери, привыкнув верить каждому слову главы дома, все единодушно согласились.
Мардамбаз, очень довольный таким решением, сейчас же, не откладывая, начал приводить его в исполнение и, наточив свой булатный нож, занес его уже над горлом сына[1], как вдруг яркий свет осветил все помещение и откуда-то послышался голос, сказавший: «Остановись, Мардамбаз, Аллах видит твое чистосердечное желание и принимает его как искупительную жертву за великого эмира Шаруана, даруя ему жизнь и благоденствие до ста лет, а также жизнь тебе, твоей жене и дочерям. Вы все с этого времени будете счастливы».
Голос замолк. Пораженный Мардамбаз упал на колени и, совершив молитву, тотчас же бегом направился во дворец.
Эмир же, не замеченный никем, стоя недалеко, видел все происходившее в доме Мардамбаза и, раньше его вернувшись во дворец, улегся снова в постель, сделав вид, что никуда не выходил.
Увидев вошедшего к нему Мардмабаза, эмир, желая его испытать, сердито спросил:
— Что ты там так долго ходил?
— Прости, повелитель, — ответил карлик, — что я опоздал к тебе; на улице произошла бабья ссора, а помирить их было очень трудно — поссорились муж с женой; пока я каждого из них в отдельности выслушал, уговорил помириться и проводил до дому, чтобы по дороге они еще не поссорились, прошло много времени. Это меня и задержало.
— Хорошо, сказал эмир, — иди пока домой; сон свой я рассказывать теперь не расположен, хочу подумать сам о нем…
Когда наступил день, собрались на совет все визири, и эмир рассказывал им со всеми подробностями происшедшее в эту ночь, и визири, услышав о подвиге Мардамбаза, стали просить эмира за такое самопожертвование наградить Мардамбаза и приблизить его к особе правителя; семье же его отвести помещение в покоях эмирского дворца.
Великодушный и справедливый эмир не отказал им в их просьбе.
Мардамбаз сделался ближайшим советником и любимым другом великого эмира Шаруана, и жизнь его беспечально протекала до глубокой старости…»
Вот видишь, бояр, какие бывают хорошие люди. В их бренную оболочку Аллах вложил твердый дух и мудрость.
Однако прости, бояр; заслушавшись моего рассказа, ты отогнал ангела сна.
Посмотри на восток, сейчас начнется день и нам нужно собираться, чтобы до жары доехать до холодных вод Мургаба.
Примечания
править- ↑ Вероятно, в этой сказке отразился библейский рассказ о принесении Авраамом в жертву Исаака.