ИСТОРІЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
править
ВЪ ОЧЕРКАХЪ И БІОГРАФІЯХЪ.
правитьСОЧИНЕНІЕ
П. ПОЛЕВОГО.
править
ЧАСТЬ І.
правитьДРЕВНІЙ ПЕРІОДЪ.
правитьПЯТОЕ ИЗДАНІЕ.
правитьСАНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.
1883.
править

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15-го Іюля 1883 г.
ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА "ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА", Б. ПОДЪЯЧЕСКАЯ, Д. № 39.ПРЕДИСЛОВІЕ.
правитьРовно десять лѣтъ тому назадъ (въ Ноябрѣ 1871 г.), вышло въ свѣтъ первое изданіе нашей книги. Десятилѣтіе, пережитое нами съ тѣхъ поръ, и постоянная работа надъ различными эпохами литературы, побудила насъ во многихъ отношеніяхъ измѣнить взглядъ не только на тотъ литературный матерьялъ, который долженъ входить въ составъ нашей книги, но и на самый способъ изложенія этого матерьяла. Болѣе широкое изученіе бытовой стороны нашего прошлаго въ особенности сильно повліяло на наше отношеніе къ родной старинѣ: — оно побудило насъ ярче и отчетливѣе освѣтить нѣкоторыя стороны набросанной нами общей картины и значительно сгладить впечатлѣніе другихъ, болѣе темныхъ сторонъ ея. Въ общемъ, однакоже, мы не рѣшились отступить отъ нашего прежняго плана, который до извѣстной степени удовлетворяетъ общеобразовательнымъ цѣлямъ и облегчаетъ, по возможности, знакомство съ до-Петровскою эпохою нашей литературы.
Въ настоящемъ изданіи оказалось неудобнымъ соединить древнюю и новую литературу въ одномъ томѣ, и мы увидѣли себя вынужденными раздѣлить нашу книгу на двѣ части.
Первая часть, которую мы въ настоящее время предлагаемъ читателямъ, заключаетъ въ себѣ всю древнюю литературу, отъ начала письменности и до эпохи Преобразованій. Во второй части, которая уже печатается и вскорѣ поступитъ въ продажу, помѣщенъ весь новый и новѣйшій періодъ нашей литературы, отъ временъ Петра и до нашего времени.
Такое раздѣленіе книги на двѣ части дало намъ возможность пополнить, какъ литературный, такъ и художественный матеріялъ нашего труда весьма значительными вставками и добавленіями. Обращаемъ вниманіе читателей въ особенности на новые снимки съ рукописей, внесенные нами въ настоящее изданіе, такъ какъ они даютъ возможность ближе ознакомиться съ различными способами древне-русскаго письма. Лучшіе и наиболѣе любопытные изъ приведенныхъ нами образцовъ письма были намъ доставлены покойнымъ И. И. Срезневскимъ, который по нашей просьбѣ, выбралъ ихъ изъ своего 'драгоцѣннаго собранія памятниковъ русской палеографіи. Одинъ изъ этихъ памятниковъ (стр. 78) былъ даже нарисованъ красками для нашего изданія дочерьми покойнаго И. И. Срезневскаго, и мы пользуемся настоящимъ случаемъ, чтобы выразить имъ здѣсь нашу искреннюю благодарность.
Кромѣ этихъ добавленій, мы нашли возможность украсить біографію Никона новыми, весьма любопытными гравюрами; онѣ изображаютъ: скитъ Никона въ Воскресенскомъ монастырѣ (въ Новомъ-Іерусалимѣ), Валдайскій Иверскіи монастырь, въ которомъ Никонъ любилъ останавливаться для отдыха при переѣздахъ изъ Новгорода въ Москву, и Типографскую башню этого монастыря, въ которой одно время (при Никонѣ) находилась типографія, печатавшая различныя обличительныя сочиненія противъ раскольниковъ. За любезное доставленіе фотографій, по которымъ исполнены эти гравюры, приносимъ нашу глубокую признательность архимандриту Воскресенскаго монастыря, о. Веніамину. Въ заключеніе, долгомъ считаемъ поблагодарить всѣхъ тѣхъ, кто словомъ или дѣломъ способствовалъ намъ въ улучшеніи внутренней и въ украшеніи внѣшней стороны нашей книги въ ея настоящемъ изданіи. Считаемъ себя въ особенности обязанными академику А. Ѳ. Бычкову, библіотекарю московскаго Румянцевскаго музея, А. П. Бушера, и Ѳ. Е. Эльцгольцу.
7 Октября 1881 г.
С.-Петербургъ.


ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.
правитьОТЪ НАЧАЛА ПИСЬМЕННОСТИ ДО ТАТАРЩИНЫ.
правитьI.
правитьБратья-первоучители. — Болгарское вліяніе. — Кириллица и глаголица. — Письменный матерьялъ и писцы. — Древнѣйшій памятникъ русской письменности,
правитьВъ концѣ Х-го вѣка, на Руси, при содѣйствіи великаго князя кіевскаго, Владиміра, впослѣдствіи прозваннаго Равноапостольнымъ, — введено было христіанство, и вся Русь была крещена, прибывшимъ въ изъ Византіи, греческимъ духовенствомъ. Вмѣстѣ съ духовенствомъ прибыли зодчіе для постройки первыхъ храмовъ христіанскихъ въ новоокрещенной землѣ, живописцы для написанія первыхъ иконъ, и другіе искусные мастера и художники, которымъ предстояло снабдить церкви наши необходимою утварью и благолѣпными украшеніями. Образцы иконъ, об.таченій и утвари церковной. по которымъ надлежало работать этимъ мастерамъ и художникамъ, принесены были духовенствомъ изъ Византіи; но драгоцѣннѣе всего, принесеннаго ими, были книги Св. Писанія и церковныя, писанныя не на языкахъ, чуждыхъ русскому народу, а на языкѣ родственнаго ему славянскаго племени. Такимъ образомъ, древней Руси выпало на долю великое счастье: съ первыхъ-же дней по введеніи христіанства, предки наши услышали слово Божіе, услышали пѣніе и чтеніе въ церкви на языкѣ, вполнѣ доступномъ ихъ пониманію. Вотъ почему, вмѣстѣ со введеніемъ у насъ на Руси христіанства, положены были и первыя прочныя основы нашей грамотности и письменности, которыя и у насъ, какъ во всѣхъ странахъ міра, были первыми шагами на пути просвѣщенія и развитія литературы.
Но откуда же явились у греческихъ проповѣдниковъ эти книги Св. Писанія, переведенныя на славянскій языкъ, родственный нашему русскому? Кому именно, и по какому поводу вздумалось потрудиться надъ этимъ благодѣтельнымъ для насъ переводомъ книгъ Св. Писанія и книгъ церковныхъ? Что это былъ за языкъ, и которому изъ племенъ славянскихъ, нынѣ еще живущихъ, онъ принадлежалъ? Какіе памятники письменные сохранились намъ отъ той отдаленной эпохи? Вотъ вопросы, которые представляются намъ сами собою, и которые мы поспѣшимъ разрѣшить прежде, нежели приступимъ къ описанію древнѣйшаго періода русской литературы.
Книги Св. Писанія были впервые переведены не для потребностей новоокрещеннаго русскаго народа, а для мораванъ — другого, небольшого племени славянскаго. Оно крещено было почти за двѣсти лѣтъ до введенія христіанства въ Россіи, но крещено было германскими проповѣдниками, которые принесли съ собою и книги, писанныя на непонятномъ для мораванъ языкѣ латинскомъ. Почти пятьдесятъ лѣтъ слушали мораване Св. Писаніе и богослуженіе на латинскомъ языкѣ, и христіанство не имѣло между ними никакого успѣха: нравы оставались, по прежнему, грубыми; грамотность не развивалась и язычество не ослабѣвало въ народѣ, который нѣмецкіе проповѣдники считали, однако-же, окрещеннымъ. Моравскіе князья, видя, что народъ не въ состояніи усвоить себѣ даже и самыхъ первыхъ истинъ христіанскаго ученія на языкѣ ему чуждомъ и непонятномъ, — обратились къ византійскому императору Михаилу съ просьбою прислать имъ такихъ проповѣдниковъ, которые-бы въ состояніи были истолковывать мораванамъ Св. Писаніе на языкѣ славянскомъ. Такое обращеніе ихъ къ Византіи было весьма естественно потому. что во владѣніяхъ византійскаго императора многія мѣстности заселены были славянами, а потому и можно было предполагать, что между духовенствомъ греческимъ должны будутъ найтись многіе люди, коротко знакомые съ языкомъ славянскихъ племенъ, обитавшихъ близко къ предѣламъ обширной имперіи византійской. Предположеніе это и оказалось совершенно вѣрнымъ: въ отвѣтъ на просьбу моравскаго князя Ростислава о присылкѣ проповѣдниковъ, знающихъ славянскій языкъ, императоръ Михаилъ отправилъ въ Моравію двухъ ученыхъ монаховъ, братьевъ Кирилла и Меѳодія, и съ ними нѣсколькихъ другихъ духовныхъ лицъ. Это было въ 863 году.
Выборъ императора палъ на этихъ ученыхъ братьевъ потому, что ему лично были извѣстны ихъ подвиги на поприщѣ распространенія христіанства между различными племенами, и ихъ глубокое знаніе языка славянскаго. Кириллъ и Меѳодій были сыновья греческаго вельможи Льва, и происходили изъ Солуни, главнаго города Македонской провинціи, окруженнаго славянскими колоніями. Меѳодій, старшій братъ (род.?, ум. 885 г.), сначала служилъ въ военной службѣ, затѣмъ былъ правителемъ одной области, въ которой много было славянскихъ поселеній, потомъ постригся въ монахи, въ одномъ изъ монастырей на горѣ Олимпѣ. Младшій братъ, Кириллъ (прежде поступленія въ духовное званіе онъ назывался Константиномъ, род. 827 г., ум. 869), покровительствуемый однимъ изъ родственниковъ своихъ, получилъ блестящее образованіе при византійскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ императоромъ Михаиломъ, при чемъ ему пришлось быть, по философіи, математическимъ наукамъ и словесности, ученикомъ знаменитаго Фотія (впослѣдствіи патріарха). Но ни блескъ двора, ни тѣ почести, которыхъ могъ добиться молодой Константинъ, — ни что не прельщало его: онъ предпочелъ поступить въ духовное званіе и принялъ мѣсто библіотекаря при храмѣ Св. Софіи: но потомъ искалъ уединенія, — удалялся даже въ монастырь, — и только по настоянію друзей возвратился въ столицу и принялъ должность учителя философіи и званіе философа. Прозваніе философа тѣсно слилось съ его именемъ и на вѣки сохранилось за нимъ въ потомствѣ. На двадцать четвертомъ году отъ роду, Кириллъ съ жаромъ предался трудному дѣлу проповѣди христіанской. Сначала пришлось ему защищать христіанство противъ магометанства, быстро распространявшагося въ малоазійскихъ владѣніяхъ Византіи; а потомъ — въ Крыму, между хазарами, — бороться съ магометанствомъ и іудействомъ. При всѣхъ этихъ странствованіяхъ братъ Меѳодій былъ неразлученъ съ Кирилломъ и ревностно раздѣлялъ съ нимъ подвиги на пользу вѣры.
Должно предполагать, что ученые братья еще съ дѣтства были знакомы съ языкомъ славянъ, заселявшихъ, какъ мы уже сказали выше, многія мѣстности въ предѣлахъ византійской имперіи. Эти славяне, жившіе въ Византіи, и другія родственныя имъ славянскія племена, жившія ближе къ Дунаю, въ предѣлахъ Болгаріи, — давно уже нуждались въ томъ, чтобы и книги богослужебныя, и Св. Писаніе были переведены на ихъ языкъ, потому-что они точно такъ-же не понимали проповѣди христіанской на греческомъ языкѣ, какъ мораване — на латинскомъ. Многіе изъ нихъ, вслѣдствіе этого, даже и по принятіи крещенія, вновь возвращались къ язычеству. Желая доставить имъ возможность услышать Слово Божіе на родномъ языкѣ, Кириллъ, прежде всего, занялся изобрѣтеніемъ такой азбуки, которая-бы способна была передать вполнѣ все разнообразіе звуковъ славянской рѣчи. Преданіе гласитъ, что азбука изобрѣтена была Кирилломъ еще около 855 года. Образцомъ очертанія буквъ послужила ему азбука греческая; а такъ-какъ онъ зналъ много языковъ, то для такихъ славянскихъ звуковъ, которымъ нѣтъ соотвѣтствующихъ въ языкѣ греческомъ, онъ заимствовалъ очертанія буквъ изъ азбукъ еврейской, армянской и коптской. Для нѣкоторыхъ звуковъ, напр., для носовыхъ, изобрѣлъ даже и самостоятельныя очертанія. Всѣхъ буквъ въ этой азбукѣ было 38. Послѣ изобрѣтенія азбуки, Кириллъ, при помощи брата Меѳодія, перевелъ съ греческаго на славянскій языкъ необходимыя для богослуженія книги, и такимъ образомъ, еще ранѣе того времени, когда братья Кириллъ и Меѳодій были призваны въ Моравію, ими уже сдѣланы были первые опыты переводовъ съ греческаго на славянскій языкъ при помощи изобрѣтенной Кирилломъ азбуки, и богослуженіе на славянскомъ языкѣ уже введено было въ употребленіе между славянами византійскими, а отсюда, вѣроятно, оно было перенесено и къ болгарскимъ славянамъ, которые крестились около 861 г. Преданіе гласитъ, что сначала принялъ крещеніе отъ св. Меѳодія болгарскій князь Борисъ, а потомъ и весь народъ.
Но главная дѣятельность братьевъ-проповѣдниковъ относится къ періоду послѣ 862 года, т. е. ко времени пребыванія ихъ въ Моравіи. Здѣсь, въ теченіи четырехъ съ половиною лѣтъ, трудились братья надъ переводомъ книгъ Св. Писанія, учили славянъ своей новой грамотѣ, боролись и противъ языческихъ суевѣрій, и противъ нѣмецкаго духовенства, которое очень непріязненно смотрѣло на быстрые успѣхи славянской проповѣди. «И рады были славяне», говоритъ древній лѣтописецъ нашъ — «такъ-какъ они слышали величіе Божіе на своемъ языкѣ». Нѣмецкое-же духовенство, опасаясь утратить всякое значеніе въ Моравіи по мѣрѣ распространенія славянскаго богослуженія, стало посылать жалобу за жалобой въ Римъ, къ папѣ Николаю I, доказывая, будто проповѣдывать Слово Божіе можно только на трехъ языкахъ — еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, «такъ какъ надпись на крестѣ Спасителя была начертана Пилатомъ только на этихъ трехъ языкахъ». Около того времени, Церковь Западная находилась въ постоянно непріязненныхъ отношеніяхъ къ Церкви Восточной (вскорѣ послѣ того онѣ и окончательно раздѣлились), а потому папа Николай I охотно принялъ жалобы и клеветы нѣмецкаго духовенства на братьевъ-первоучителей и ихъ славянскую проповѣдь. Они были призваны въ ту страну, гдѣ, уже почти пятьдесятъ лѣтъ сряду, нѣмецкое духовенство тщетно старалось основать на проповѣди христіанской свое матерьяльное могущество, и гдѣ имъ удалось сразу получить громадное значеніе: понятно, что папа сталъ опасаться ослабленія римскаго вліянія на Моравію, и потому потребовалъ ихъ къ себѣ на судъ. Кириллъ и Меѳодій, надѣясь и тамъ отстоять свое правое дѣло н доказать необходимость богослуженія на славянскомъ языкѣ, отправились въ Римъ. Но они уже не застали папы Николая I въ живыхъ. Наслѣдовавшій ему — папа Адріанъ II принялъ ихъ ласково, дозволилъ продолжать проповѣдь и богослуженіе на языкѣ славянскомъ, и даже посвятилъ Меѳодія въ санъ епископа паннонскаго 1), послѣ чего Меѳодій возвратился въ Моравію; а братъ его, Кириллъ, изнуренный тяжкими трудами послѣднихъ лѣтъ, остался въ одномъ изъ монастырей близь Рима, вскорѣ заболѣлъ и умеръ, въ 869 году.
1) Подъ именемъ Панноніи извѣстна была въ то время страна, занимавшая часть нынѣшней Моравіи и часть Венгріи.
Меѳодй пережилъ брата на шестнадцать лѣтъ, и въ теченіе всего времени своей жизни не переставалъ бороться съ нѣмецкимъ духовенствомъ, распространяя богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Неисчислимы всѣ тѣ гоненія и страданія (цѣлыхъ 2½ года онъ, между прочимъ, провелъ въ тюрьмѣ), которыя онъ претерпѣлъ за свое святое дѣло. Но св. Меѳодій не покидалъ столь успѣшно начатаго имъ дѣла проповѣди въ земляхъ славянскихъ, и неослабно распространялъ его все дальше и шире: около 871 года онъ крестилъ чешскаго князя Боривоя, и ввелъ въ Чехіи славянское богослуженіе, а ученики Меѳодія пробрались и далѣе — въ Силезію и Польшу. Однако-же, подъ конецъ жизни, Меѳодію пришлось быть свидѣтелемъ явнаго торжества враждебнаго ему нѣмецкаго духовенства: папа Іоаннъ VIII, преемникъ Адріана II, запретилъ богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Не смотря на то, что Меѳодію удалось склонить папу къ отмѣнѣ этого запрещенія, черезъ годъ послѣ смерти Меѳодія, въ 886 году, всѣ ученики братьевъ-первоучителей (Климентъ, Наумъ, Савва, Ангеларъ и Гораздъ) и всѣ сторонники ихъ (въ томъ числѣ двѣсти священниковъ) были изгнаны изъ Моравіи и нашли себѣ убѣжище въ Болгаріи.

Здѣсь-то, въ особенности въ правленіе просвѣщеннаго царя Симеона, правившаго Болгаріей съ 892 года по 927, письменность славянская сдѣлала большіе успѣхи: на славянскій языкъ переведено было множество книгъ не только церковныхъ и духовнаго содержанія, но и научныхъ, и количество рукописей, написанныхъ кирилловской азбукой, возросло до весьма значительной цифры. Здѣсь и грамота, и богослуженіе славянское нашли себѣ убѣжище отъ неистовыхъ преслѣдованіи и здѣсь-же сохранились онѣ на благо и великую пользу нашему русскому просвѣщенію, на славу безкорыстнымъ, святымъ трудамъ братьевъ-первоучителей, которыхъ благодарное потомство наименовало «апостолами славянскими». Память о нихъ доселѣ живетъ и вѣчно будетъ жить во всемъ славянскомъ мірѣ.
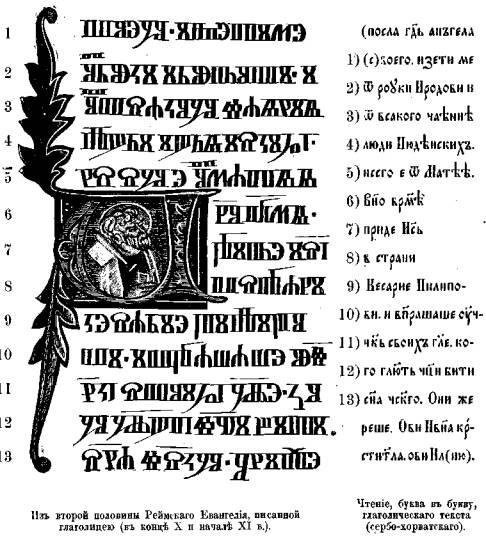
Выше сказано было нами, что послѣ изобрѣтенія азбуки славянской Кирилломъ, братья-первоучители тотчасъ перевели ванжнѣйшія богослужебныя книги на славянскій языкъ, и что богослуженіе на славянскомъ языкѣ распространилось сначала между славянами, обитавшими въ предѣлахъ византійской имперіи, а потомъ перешло къ славянамъ, жившимъ въ Болгаріи. Языкъ, на который Св. Писаніе было переведено братьями-первоучителями, былъ, вѣроятно, народнымъ языкомъ племенъ славянскихъ, жившихъ между Балканами и Дунаемъ. Если и въ настоящее время между языками племенъ Славянскихъ сохранилось еще такъ много сходства, что соплеменники наши, принадлежащіе къ различнымъ отраслямъ общей славянской семьи, могутъ понимать другъ друга, — то слѣдуетъ предположить, что за 1000 лѣтъ до нашего времени это сходство между языками племенъ славянскихъ было еще сильнѣе; а потому нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что переводъ Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ, надъ которымъ потрудились братья-первоучители, долженъ былъ сдѣлаться драгоцѣннымъ достояніемъ всѣхъ славянскихъ племенъ, и, въ то время, оказаться вполнѣ доступнымъ пониманію каждаго на самыхъ противоположныхъ концахъ славянскаго міра: подъ Балканами и въ Моравіи, въ Болгаріи и на Руси. Но такъ-какъ грамота, изобрѣтенная Кирилломъ, болѣе всего привилась въ Болгаріи, такъ-какъ здѣсь-же, при царѣ Симеонѣ, болѣе всего было написано и переведено книгъ на языкъ славянскій, то языку, сохранившемуся въ древнихъ спискахъ Св. Писанія, съ теченіемъ времени стали придавать названіе языка древне-болгарскаго.
Относительно этого названія должно замѣтить, что подъ словомъ болгарскій языкъ здѣсь не слѣдуетъ разумѣть — языкъ болгаръ, а только — языкъ славянъ, жившихъ въ Болгаріи. Сами болгаре вовсе не принадлежали къ семьѣ славянскихъ племенъ: болгаре, по происхожденію, принадлежали къ урало-алтайской чуди, были воинственнымъ и храбрымъ народомъ, обитавшимъ въ степяхъ юго-восточной Россіи между Дономъ и Волгою. Въ VII столѣтіи племя это раздѣлилось: одна часть его двинулась на сѣверъ и осѣла по берегамъ Камы, впадающей въ Волгу; другая — двинулась на западъ и въ концѣ VII вѣка явилась на Дунаѣ. Здѣсь болгаре покорили себѣ значительную часть придунайскихъ славянскихъ племенъ. Но славяне были образованнѣе и искуснѣе болгаръ въ земледѣліи и ремеслахъ, и не болѣе, какъ въ теченіе двухъ вѣковъ успѣли такъ сильно воздѣйствовать на пришлую горсть воинственныхъ побѣдителей своихъ, что тѣ и нравы свои оставили, и языкъ позабыли, и совершенно слились съ славянами, передавъ имъ только свое имя.
Когда-же переводы Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ изъ Болгаріи и Греціи перенесены были къ намъ, на Русь, то языкъ, которымъ они были написаны, получилъ у насъ названіе «церковно-славянскаго», потому-что значительно отличался отъ народнаго русскаго языка и явился исключительно языкомъ церкви. Впрочемъ, такъ-какъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы большая часть писателей принадлежала къ сословію духовному, то изъ смѣси языка церковно-славянскаго съ древне-русскимъ языкомъ, которымъ въ то время говорили наши предки, мало-по-малу образовался языкъ литературный или книжный, которымъ и стали излагать мысли письменно.
Упомянувъ о языкѣ, на которомъ сохранились до нашего времени древнѣйшіе памятники славянской письменности, пояснивъ вмѣстѣ съ тѣмъ, почему именно въ разныхъ случаяхъ придаются ему разныя названія, мы должны еще обратить вниманіе и на самыя письмена, которыхъ изобрѣтеніе приписывается св. Кириллу. Азбука, которою у насъ и до настоящаго времени печатаютъ церковныя книги, очень похожая на письмена нашихъ древнѣйшихъ памятниковъ, въ славянскомъ мірѣ носитъ названіе «кириллицы». Подобною-же кириллицею прежде писались книги у насъ на Руси, въ Болгаріи и всей восточной части славянскаго міра. Кириллицею эта азбука названа въ отличіе отъ другой азбуки славянской, которая, если и не была изобрѣтена ранѣе кириллицы, то, вѣроятно, вскорѣ послѣ нея, и, съ теченіемъ времени, пріобрѣла довольно важное значеніе въ югозападномъ углу славянскихъ земель. Азбука эта, гораздо болѣе кириллицы запутанная въ очертаніяхъ своихъ, получила издревле названіе глаголицы. Чтобы яснѣе опредѣлить разницу между обѣими азбуками по начертанію, приводимъ здѣсь два отрывка изъ древнихъ рукописей, писанныхъ «кириллицею» и «глаголицею».
Христіанствомъ просвѣтила насъ Греція, но введенію у насъ книжнаго ученія и началу письменности русской — Греція могла способствовать только при посредствѣ сосѣднихъ намъ болгарскихъ славянъ, у которыхъ письменность была особенно сильно развита именно около того времени, когда принято было христіанство въ Россіи (т. е. въ концѣ IX и началѣ X вѣка). Отъ нихъ-то и перешло къ намъ въ Россію много книгъ, писанныхъ кириллицею, и съ того времени кириллица*вошла у насъ въ употребленіе, а очертанія буквъ удержались въ русскомъ письмѣ до начала XVIII вѣка, т. е. въ теченіе девяти вѣковъ. Кириллицею до XVI вѣка писались наши книги; кириллицею-же стали и печатать ихъ въ XVI вѣкѣ. Только уже при Петрѣ Великомъ явилась та, несходная съ кириллицею, форма нашихъ печатныхъ буквъ, которою теперь печатаются у насъ книги и которая получила названіе гражданской азбуки (въ отличіе отъ кириловской, удержавшейся въ нашихъ церковныхъ книгахъ).

Однако-же, въ теченіе девяти вѣковъ своего существованія въ Россіи, кириллица, въ очертаніи своихъ буквъ, много разъ потерпѣла значительныя измѣненія. Древнѣйшія рукописи, писанныя до XIV вѣка, отличаются замѣчательною красотою и отчетливостью своего крупнаго письма. Каждая буква въ этомъ письмѣ ставится отдѣльно, безъ всякой связи съ ближайшими буквами. Начальныя буквы и заглавія книгъ разрисовываются красною краской, а иногда даже украшаются разноцвѣтными вычурными узорами; иногда имъ придаютъ форму цвѣтовъ, птицъ или звѣрей; иногда покрываютъ ихъ позолотой. Это древнѣйшее письмо нашихъ рукописей называется уставомъ или уставнымъ письмомъ.
Въ концѣ XIV вѣка является у насъ другое письмо, покруглѣе и помельче устава, хотя и довольно еще близкое къ нему по очертаніямъ буквъ — это полууставъ, которымъ писали преимущественно въ XV и XVI столѣтіяхъ. Наконецъ, съ XVII столѣтія, вслѣдствіе сильно-развившейся потребности въ дѣловой перепискѣ, начинаетъ преобладать скоропись (существовавшая и за долго до этого времени), отличающаяся неправильностью и некрасивостью начертаній буквъ, тѣсно-сбитыхъ, снабженныхъ множествомъ значковъ и совершенно излишнихъ фигурныхъ добавокъ къ буквамъ. Сверхъ того, надписи на вещахъ и на стѣнахъ зданіи, гдѣ иногда нужно было много словъ умѣстить на небольшомъ пространствѣ, писались особымъ способомъ — вязью. Вязью называлось такое искусное сплетеніе и сопоставленіе буквъ, при которомъ немногими очертаніями можно было многое написать (соединяя нѣсколько буквъ въ одну общую фигуру) и, сверхъ того, составить изъ буквъ очень причудливый и красивый узоръ.
Говоря о древнерусскомъ письмѣ, нельзя упустить изъ виду и того, что наши предки въ началѣ письменности нашей, писали не такъ, какъ мы теперь пишемъ. Имъ были вовсе неизвѣстны тѣ облегченные способы, которые находятся теперь въ распоряженіи каждаго грамотнаго человѣка. Писали они, вмѣсто перьевъ, тростями (каламами), которыя привозились изъ Греціи; вмѣсто бумаги нынѣшней, изготовляемой изъ тряпокъ, употребляли пергаменъ, особый письменный матерьялъ, выдѣлывавшійся изъ свиной или телячьей кожи и тоже привозившійся съ далекаго Востока. Немного позже, вмѣсто пергамена, стали употреблять бомбицину бумагу изъ хлопка, правда, толстую и плотную, но далеко не въ такой степени удобную для письма и не настолько дешевую, какъ самая лучшая, самая дорогая нынѣшняя бумага.
Трудность самаго писанія и дороговизна письменнаго матерьяла способствовали, съ одной стороны, тому, что каждая писанная книга цѣнилась очень высоко и очень немногимъ была доступна; а съ другой стороны, на трудную работу писанія, изготовленія рукописей, смотрѣли, какъ на дѣло важное, требующее и большихъ свѣдѣній, и даже особой помощи свыше. Къ писанію книгъ приступали съ благоговѣніемъ и молитвою; написанную книгу заканчивали благодареніемъ Всевышнему, обращеніемъ къ читателю съ просьбою о снисхожденіи, и часто даже подробнымъ обозначеніемъ года, мѣсяца, дня, въ который дѣло написанія было окончено. Къ этому обозначенію времени нѣкоторые писцы прибавляли даже замѣтку о томъ историческомъ событіи, со временемъ котораго совпадали начало или конецъ труда. Иные даже подробно обозначали, сколько именно времени была писана та или другая книга, такъ-какъ списыванье книгъ было дѣломъ весьма медленнымъ и труднымъ. Любопытнымъ и замѣчательнымъ образцомъ подобныхъ приписокъ къ древнимъ рукописямъ можетъ служить извѣстная памятная запись дьякона Григорія, помѣщенная въ концѣ знаменитой рукописи Евангелія. писаннаго имъ для новгородскаго посадника Остромира:
«Слава тебѣ, Господи, цесарю небесный, такъ какъ ты сподобилъ меня написать это евангеліе. Почалъ я его писать въ лѣто 6564-ое, а окончилъ его въ лѣто 6565. Написалъ-же евангеліе это рабу Божію, нареченному во крещеніи Іосифъ, а мірски Остромиръ, родственнику Изяслава-князя… который тогда держалъ обѣ власти — и отца своего Ярослава, и брата своего Володимира; самъ-же Изяславъ-князь правилъ столъ отца своего Ярослава, въ Кіевѣ, а столъ брата своего поручилъ править своему родственнику, Остромиру, въ Новгородѣ. Я, Григорій дьяконъ, написалъ это Евангеліе… началъ же его писать мѣсяца октября 20-го… а окончилъ мѣсяца мая въ 12-ое число…»
Въ концѣ одного изъ списковъ нашей древней лѣтописи находимъ другого рода приписку, живо рисующую намъ то настроеніе, въ которомъ долженъ былъ находиться списатель по окончаніи своего, вѣроятно, продолжительнаго и усидчиваго труда: «какъ радуется женихъ, при видѣ невѣсты своей», — восклицаетъ списатель — «такъ радуется писецъ, видя послѣдній листъ; какъ радуется купецъ полученію барыша или кормчій прибытію въ пристань, или странникъ — возвращенію въ отечество, такъ точно радуется и списатель книги окончанію своего труда».
Въ другихъ древнихъ рукописяхъ встрѣчаются приписки переписчиковъ, въ которыхъ они выражаютъ надежду на спасеніе за свой трудъ (такъ-какъ дѣло списыванья книгъ считалось дѣломъ богоугоднымъ), или просятъ читателя вспоминать ихъ въ молитвахъ. Съ тою-же цѣлью, люди мало грамотные нанимали другихъ, чтобы списать ту или другую книгу, и отдавали ее въ даръ церкви или монастырю, какъ вкладъ за свое спасеніе или на поминъ души родителей.
На основаніи этого взгляда, всякій писецъ (а тѣмъ болѣе скорописецъ, т. е., обладавшій способностью писать скоро, особенно искусный въ писаніи) долженъ былъ пользоваться большимъ уваженіемъ, и переписываніе книгъ считалось занятіемъ до такой степени почтеннымъ, что первѣйшія духовныя лица, а изъ свѣтскихъ — князья и княгини, посвящали досуги свои этому занятію. Даже и самое переплетаніе рукописныхъ книгъ имѣло значеніе занятія важнаго и почтеннаго, такъ-какъ толково переплетать рукописи могъ только человѣкъ грамотный, знакомый съ содержаніемъ переплетаемаго имъ сочиненія 1). При этихъ условіяхъ книги, конечно, и цѣнились весьма дорого; и напр., мы знаемъ, что кн. Владиміръ Васильковичъ Волынскій за одинъ молитвенникъ заплатилъ восемь гривенъ кунъ (болѣе 11 р. с. на наши деньги). Неудивительно, что при такой дороговизнѣ книгъ, на нихъ смотрѣли, какъ на существеннѣйшую часть достоянія, хранили ихъ въ крѣпкихъ кладовыхъ вмѣстѣ съ кунами, паволоками и драгоцѣнными сосудами, и передавали изъ рода въ родъ, какъ наиболѣе цѣнную часть наслѣдства; неудивительно и то, что книголюбцы не жалѣли денегъ на переплеты книгъ, и не только старались дать книгамъ переплеты прочные, вѣковые, но даже снабжали эти переплеты дорогими застежками, и часто покрывали серебряной, вызолоченной оправой, усаженной жемчугомъ и дорогими каменьями, украшенной золотыми крестами и финифтяными изображеніями святыхъ. Такъ напр., подъ 1288 г., въ Волынской лѣтописи подробно исчисляются книги, которыми Владиміръ Васильковичъ снабдилъ различныя церкви на Волыни. При этомъ подробно описываются драгоцѣнные переплеты, которыми эти книги были украшены, и о многихъ изъ числа ихъ говорится, что онѣ писаны были самимъ княземъ и княгинею (женою его) Ольгою Романовною. Наивное уваженіе къ книгѣ, выражавшееся, съ одной стороны, въ этомъ стремленіи къ украшенію ея внѣшности, — съ другой стороны выразилось въ извѣстномъ памятникѣ XII вѣка, однимъ изъ вопросовъ черноризца Кирика къ св. Нифонту, епископу новгородскому. Испрашивая у епископа разрѣшенія многихъ, весьма важныхъ вопросовъ вѣры и церковной обрядности, черноризецъ задаетъ ему и такой вопросъ: ,,Нѣтъ-ли грѣха — ходить по грамотѣ, которая изрѣзана и брошена, но на которой еще видны слова?"…
1) О св. Ѳеодосіи Печерскомъ сохранилось между прочимъ извѣстіе, что въ кельѣ его постоянно происходило переписыванье и переплетаніе книгъ: — инокъ Иларіонъ ихъ списывалъ, самъ Ѳеодосій прялъ нитки для переплета книгъ, а старецъ Никонъ переплеталъ рукописи.
Уже въ XI вѣкѣ любовь къ чтенію развилась въ русскомъ обществѣ весьма значительно, какъ можно судить по отзыву о книгахъ одного современника: «велика бываетъ польза отъ ученія книжнаго», — говоритъ онъ: «изъ книгъ учимся путямъ покаянія, въ словахъ книжныхъ обрѣтаемъ мудрость и воздержаніе: это — рѣки, напояющія вселенную, это — исходища мудрости; въ книгахъ неисчетная глубина, ими утѣшаемся въ печали, онѣ — узда воздержанію».
Книголюбіе побуждало многихъ даже къ посылкѣ писцовъ въ сосѣднія страны, въ Грецію, Болгарію и на Аѳонъ, — для списыванія книгъ и перенесенія на нашу русскую почву всего, что способно было служить полезною пищею духовною. Первые писцы, явившіеся у насъ въ Кіевѣ и Новѣгородѣ, были, по всѣмъ вѣроятіямъ, славяне болгарскіе; однако-же вскорѣ образовались у насъ и свои превосходные писцы; такъ, отъ половины XI вѣка, намъ сохранился до настоящаго времени вышеупомянутый списокъ Евангелія, писанный діакономъ Григоріемъ для новгородскаго посадника Остромира (въ 1056—1057 г.) — великолѣпная пергаментная рукопись, писанная крупнымъ уставомъ, украшенная раззолоченными заглавіями, фигурными начальными буквами и четырьмя большими изображеніями Евангелистовъ. Остромирово Евангеліе, которое, въ настоящее время, хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ С.-Петербургѣ. представляетъ собою древнѣйшій памятникъ славянской письменности, и всѣ славяне съ благоговѣніемъ смотрятъ на него, какъ на драгоцѣнный образецъ письменнаго искусства нашихъ предковъ, тѣмъ болѣе, что ни одному изъ славянскихъ племенъ не удалось сохранить подобнаго сокровища отъ своей рукописной старины. Въ Остромировомъ Евангеліи помѣщены Евангельскія чтенія: 1) въ главные дни пасхальнаго года, отъ Свѣтлаго Воскресенья до послѣдней заутрени великаго поста; 2) въ праздники отъ 1-го сентября до послѣдняго числа августа; 3) особыя евангельскія чтенія. Текстъ этихъ чтеній въ Остромировомъ Евангеліи можно считать почти вполнѣ вѣрнымъ подлинному древнему переводу, надъ которымъ трудились братья-первоучители. Во второй части Остромирова Евангелія, передъ чтеніями евангельскими, написаны календарныя замѣтки, древнѣйшія изъ доселѣ извѣстныхъ замѣтокъ этого рода.
Важно Остромирово, Евангеліе и потому, что представляетъ «древній славянскій языкъ почти въ ненарушенномъ древнѣйшемъ его строѣ; самыя даже отклоненія отъ требованій этого строя замѣчательны, указывая на особенности двухъ нарѣчій: одного — южнаго, за-Дунайскаго, и другаго — сѣвернаго, русскаго, что для насъ особенно важно. Наконецъ важно Остромирово Евангеліе, какъ древнѣйшая изъ доселѣ открытыхъ рукописей русскихъ, отмѣченныхъ годомъ» 1).
1) Академика И. Срезневскаго. Древніе памятники русскаго письма и языка. Стр. 14—15.
Любуясь прекрасною внѣшностью этого драгоцѣннаго памятника, невольно задумываешься надъ дивной его судьбою: восемьсотъ лѣтъ протекли незамѣтно для этой книги, уцѣлѣвшей отъ первоначальнаго скуднаго запаса русской письменности и какъ-бы для того избѣгнувшей пожаровъ, погромовъ и раззореній всякаго рода, дабы и нынѣ еще служить намъ краснорѣчивымъ памятникомъ той отдаленной эпохи, когда земля Русская только еще начинала просвѣщаться первыми лучами истины и благодати.
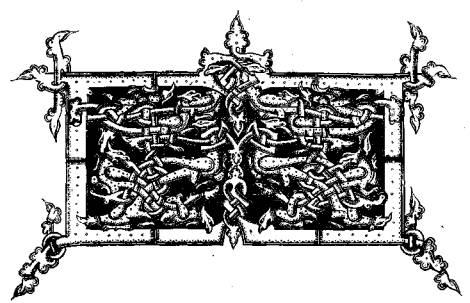
II.
правитьПервые шаги грамотности. — Первые опыты литературные. — Лука Жидята. — Иларіонъ. — Обзоръ твореній Ѳеодосія Печерскаго, Никифора и Кирилла Туровскаго.
правитьПослѣ введенія христіанства Владиміромъ на Руси, видимъ заботы его и сыновей его о повсемѣстномъ распространеніи грамотности. Несмотря на то, что изъ Греціи и Болгаріи прибыло къ намъ много духовенства, его, по мѣрѣ распространенія христіанства въ обширныхъ областяхъ Руси южной и сѣверной, оказывалось недостаточно. Къ тому-же, духовенство видѣло въ грамотности единственное средство къ усиленію вліянія христіанства въ новообращенной странѣ, а потому и побудило Владиміра озаботиться учрежденіемъ училищъ въ Кіевѣ. Изъ древнихъ лѣтописей нашихъ знаемъ мы, что Владиміръ и дѣйствительно велѣлъ отбирать дѣтей у лучшихъ гражданъ кіевскихъ, и отдавать ихъ въ ученье по церквамъ, при которыхъ священники и причтъ образовали училища. Сынъ Владиміра Равноапостольнаго, Ярославъ I, прозванный Мудрымъ, учредилъ такія-же училища въ Новѣгородѣ; по его повелѣнію, собрано было у священниковъ и важнѣйшихъ гражданъ новгородскихъ до 300 дѣтей для обученія грамотѣ. И самъ Ярославъ замѣчательно преданъ былъ дѣлу ученья: читалъ книги ночью и днемъ, собиралъ около себя поповъ и монаховъ и поощрялъ ихъ къ переводу греческихъ книгъ на славянскій языкъ. По его желанію, многія книги были писцами переписаны, другія куплены самимъ княземъ, который положилъ основаніе древнѣйшему изъ нашихъ книгохранилищъ, сложивъ книги эти при новгородскомъ софійскомъ соборѣ. Древній лѣтописецъ нашъ, жившій въ концѣ XI и началѣ XII вѣка, вспомнивши о трудахъ Ярослава и Владиміра на пользу распространенія грамотности въ новообращенной странѣ, не даромъ говорилъ: «подобно тому, какъ еслибы кто-нибудь распахалъ землю, а другой посѣялъ, а иные стали-бы пожинать и ѣсть пищу обильную, — такъ и князь Владиміръ распахалъ и умягчилъ сердца людей, просвѣтивши ихъ крещеніемъ; сынъ его, Ярославъ, посѣялъ ихъ книжными словами, а мы теперь пожинаемъ, принимая книжное ученіе».
Распространеніе грамотности шло, конечно, не всюду равномѣрно; но почва для грамотности оказалась удобною: объ этомъ всего легче судить по тому, что уже въ первой половинѣ XI вѣка начинаютъ у насъ появляться первые литературные опыты, и опыты эти принадлежатъ чисто-русскимъ людямъ, воспитавшимся на русской почвѣ. Само собою разумѣется, что самостоятельными эти первые литературные опыты быть не могли: они могли проявиться только въ видѣ подражаній тѣмъ образцамъ, которые представляла намъ литература византійская, по-тому что и новая вѣра, и образованіе были принесены къ намъ изъ Византіи; а такъ-какъ Византія дѣйствовала на насъ и непосредственно, и чрезъ посредство болгарскихъ славянъ, то и образцы византійской литературы заходили къ намъ на Русь въ двухъ видахъ: или въ видѣ греческихъ подлинниковъ, или въ видѣ болгарскихъ переводовъ и передѣлокъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что болгаре и греки, приходившіе къ намъ на Русь, въ первое время по принятіи нами христіанства, большею частью, принадлежали къ сословію духовному; что школы устраивались преимущественно при церквахъ и учителями въ нихъ являлись духовныя лица; что главною цѣлью распространенія грамотности въ этомъ древнѣйшемъ періодѣ являлось стремленіе дать народу грамотныхъ пастырей церкви. Вслѣдствіе этого, преимущественно грамотнымъ сословіемъ въ древней Руси должно было явиться духовенство и монашество и, подъ вліяніемъ этого сословія, наиболѣе значенія должна была пріобрѣсти литература духовная, для которой образцы и почерпались изъ Византіи. На томъ-же основаніи, и къ самой литературѣ свѣтской, и ко всему образованію въ древней Руси привился характеръ строго-религіозный.
Первые опыты нашихъ русскихъ литературныхъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ духовенству, состояли изъ поученій, проповѣдей и посланій, въ которыхъ духовенство обращалось къ паствѣ своей, истолковывая ей важнѣйшія стороны христіанской религіи, опровергая ложныя толкованія различныхъ догматовъ, порицая въ народѣ приверженность къ языческимъ обычаямъ и къ нѣкоторымъ порокамъ. Всѣ эти поученія, проповѣди и посланія вызываемы были, по-видимому, двумя главными побужденіями: съ одной стороны, желаніемъ просвѣтить князей и народъ и дать имъ правильное понятіе объ обязанностяхъ христіанина; а съ другой — желаніемъ защитить такъ успѣшно распространявшееся въ Россіи православіе отъ вліянія католичества и іудейства, которые всего легче могли въ то время дѣйствовать на юную, еще не окрѣпшую паству русскую.
Первыми, по времени, авторами русскими являются въ нашей литературѣ: Иларіонъ, митрополитъ кіевскій (съ 1051 года), и Лука Жидята, поставленный епископомъ новгородскимъ въ 1036 году. Отъ каждаго изъ нихъ сохранилось до нашего времени по одному поученію. Отъ Луки Жидяты дошло до насъ «Поученіе къ братіи», чрезвычайно замѣчательное по лаконизму языка и простотѣ своего содержанія. Видно, что Лукѣ приходилось имѣть дѣло съ паствой, состоявшей изъ людей, недавно обращенныхъ въ христіанство и вовсе незнакомыхъ даже съ наиболѣе важными истинами христіанскими, потому что все «Поученіе къ братіи» представляетъ собою простое переложеніе заповѣдей и напоминаніе о важнѣйшихъ обязанностяхъ христіанина по отношенію къ Богу, къ себѣ самому и къ ближнимъ. Приводимъ здѣсь этотъ драгоцѣнный памятникъ русской литературы XI вѣка цѣликомъ:
«Вотъ, братія, прежде всего, эту заповѣдь должны мы, всѣ христіане, держать: вѣровать во единаго Бога, въ Троицѣ славимаго, въ Отца и Сына, и Св. Духа, какъ научили Апостолы, утвердили св. Отцы. Вѣруйте воскресенію, жизни вѣчной, мукѣ грѣшникамъ вѣчной. Не лѣнитесь въ церковь ходить, къ заутрени и къ обѣднѣ, и къ вечернѣ, и въ своей клѣти прежде Богу поклонись, а потомъ уже ложись спать. Въ церкви стойте со страхомъ Божіимъ, не разговаривайте, не думайте ни о чемъ другомъ, но молите Бога всею мыслию, да отпуститъ Онъ вамъ грѣхи. Любовь имѣйте со всякимъ человѣкомъ и больше съ братьями, и пусть не будетъ у васъ одно на сердцѣ, а другое на устахъ; не рой брату яму, чтобы тебя Богъ не ввергнулъ въ худшую. Терпите обиды, не платите зломъ за зло; другъ друга хвалите, и Богъ васъ похвалитъ. Не ссорь другихъ, чтобы не назвали тебя сыномъ дьявола; помири — да будешь сынъ Богу. Не осуждай брата и мысленно, поминая свои грѣхи, — да и тебя Богъ не осудитъ. Помните и милуйте странныхъ, убогихъ, заточенныхъ въ темницы, и къ своимъ сиротамъ (т. е. рабамъ) будьте милостивы. Игрищъ бѣсовскихъ вамъ, братія, не прилично творить, также — говорить срамныя слова, сердиться ежедневно; не презирай другихъ, не смѣйся ни надъ кѣмъ, въ напасти терпи, имѣя упованіе на Бога. Не будьте буйны, горды; помните, что, можетъ быть, завтра будете смрадъ, гной, черви. Будьте смиренны и кротки: у гордаго въ сердцѣ дьяволъ сидитъ и Божіе Слово не прильнетъ къ нему. Почитайте стараго человѣка и родителей своихъ, не клянитесь Божіимъ именемъ, и другого не заклинайте и не проклинайте. Судите по правдѣ, взятокъ не берите, денегъ въ ростъ не давайте, Бога бойтесь, князя чтите. Рабы, повинуйтесь сначала Богу, потомъ господамъ своимъ, чтите отъ всего сердца іерея Божія, чтите и слугъ церковныхъ. Не убей, не украдь, не лги, лживымъ свидѣтелемъ не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи; не пей не-вовремя, и всегда пейте съ умѣренностью, а не до пьянства; не будь гнѣвливъ, дерзокъ; съ радующимися радуйся, съ печальными будь печаленъ; не ѣшьте нечистаго, святые дни чтите, Богъ же мира со всѣми вами. Аминь».
Оть Иларіона дошло до насъ «Слово о законѣ, данномъ чрезъ Моисея, и о благодати и истинѣ, происшедшей черезъ Іисуса Христа». Въ этомъ поученіи мы видимъ полнѣйшую противуположность только-что приведенному нами поученію новгородскаго епископа Луки Жидяты. «Слово о законѣ» выказываетъ въ Иларіонѣ человѣка, способнаго къ ясному изложенію своихъ мыслей даже и тогда, когда онѣ касаются довольно запутанныхъ и спорныхъ вопросовъ; притомъ человѣка, знакомаго съ произведеніями византійскихъ проповѣдниковъ, отъ которыхъ онъ заимствовалъ внѣшнюю форму своего «Слова». Видно, что и тѣ, для которыхъ проповѣдникъ предназначилъ свое «Слово», были тоже люди начитанные и способные оцѣнить разсужденіе Иларіоново; онъ и самъ говоритъ, что писалъ «не къ невѣдущимъ людямъ, но къ насытившимся сладости книжной». Содержаніе «Слова» заключается въ указаніи противуположности христіанства іудейству, и превосходства благодати Христовой, Новаго Завѣта, передъ закономъ, даннымъ черезъ Моисея. Указывая на преимущества христіанства, Иларіонъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъясняетъ, что принятіе христіанства было величайшимъ счастіемъ для Руси; потомъ сравниваетъ Русь языческую съ Русью христіанскою. «Мы уже не зовемся болѣе идолослужителями», говоритъ онъ, «но христіанами; мы болѣе уже не безнадежники, но уповаемъ въ жизнь вѣчную: не строимъ болѣе капищъ, а создаемъ церкви Христовы; не закалаемъ бѣсамъ другъ друга, но Христосъ закалается за насъ и дробится въ жертву Богу и Отцу». Послѣ этого сравненія, Иларіонъ заканчиваетъ свое «Слово» восторженною похвалою Владиміру Равноапостольному, просвѣтившему Русь крещеніемъ. Одною изъ побудительныхъ причинъ къ написанію «Слова о благодати» было, конечно, желаніе противодѣйствовать распространенію на Руси іудейства, которое и въ это время, и въ послѣдствіи, какъ мы далѣе увидимъ, много разъ порывалось къ намъ проникнуть и у насъ водвориться.

Свои доводы противъ іудейства Иларіонъ заимствуетъ большею частью изъ Толковой Палеи, особаго вида полемическихъ богословскихъ сочиненій, рано перенесеннаго съ почвы греческой на русскую. Толковая Палея состояла изъ подбора статей направленныхъ противъ іудейства, и такого изложенія ветхозавѣтной исторіи, въ которомъ пропускались цѣлые отдѣлы, не поддающіеся символизаціи, и особенное вниманіе обращаемо было только на то, что можно было поставить въ тѣсную символическую связь съ исторіею Новаго Завѣта. Начинаясь шестидневомъ (т. е. разсказомъ ошести дняхъ сотворенія міра), Палея оканчивалась началомъ царствованія Соломонова и завершалась изреченіями ветхозавѣтныхъ пророковъ и даже языческихъ философовъ о Христѣ.
Третій писатель нашъ, также принадлежащій XI столѣтію, былъ игуменъ Кіево-печерскаго монастыря — Ѳеодосій. Онъ избранъ былъ въ игумены въ 1062 году, за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ поступилъ въ этотъ-же монастырь, когда онъ еще только основывался, и первые отшельники только еще начинали собираться около преподобнаго Антонія. поселившагося въ пещерѣ, выкопанной Иларіонъ на берегу Днѣпра, на высокой горѣ, поросшей лѣсомъ. Сюда любилъ уединяться Иларіонъ, когда еще былъ священникомъ въ Берестовѣ, селѣ князя Ярослава I; здѣсь поселился Антоній, послѣ долгаго пребыванія въ монастыряхъ греческихъ, на Аѳонской горѣ; сюда-же, вмѣстѣ съ небольшою, но избранною братіею, привлеченный слухамй о святости жизни Антонія, явился и Ѳеодосій. И мало-по-малу образовался и явился здѣсь славный впослѣдствіи Кіево-печерскій монастырь, которому суждено было сдѣлаться однимъ изъ важнѣйшихъ разсадниковъ просвѣщенія и литературы въ древней Руси. Въ числѣ иноковъ и настоятелей Кіево-печерскаго монастыря, видимъ мы замѣчательнѣйшихъ дѣятелей древней Руси; въ стѣнахъ его видимъ кипучую, неутомимую дѣятельность просвѣщеннѣйшихъ людей того времени. Здѣсь воспитываются лучшіе проповѣдники наши; здѣсь составляются житія святыхъ, ведутся лѣтописи; отсюда, черезъ просвѣщенныхъ пастырей и епископовъ, проливается свѣтъ грамотности во всѣ концы тогдашняго русскаго міра; отсюда-же выходятъ и ревностнѣйшіе проповѣдники слова Божія, безстрашно стремящіеся въ лѣса и пустыни распространять вѣру Христову между язычниками.
Мы почти ничего не знаемъ о жизни двухъ вышепомянутыхъ первыхъ писателей нашихъ; что-же касается третьяго, Ѳеодосія, — отъ котораго дошло до насъ «посланіе къ великому князю Изяславу о латинской вѣрѣ», десять краткихъ поученій къ инокамъ кіево-печерскимъ и одно обширное поученіе къ народу, — то подробности его жизни, поразившія современниковъ, были съ величайшимъ тщаніемъ собраны иноками кіево-печерскими и записаны другимъ замѣчательнѣйшимъ писателемъ конца XI и начала XII вѣка — Несторомъ. Несторъ оставилъ намъ «житіе Ѳеодосія», и мы, далѣе, приведемъ важнѣйшіе отрывки изъ этого, въ высшей степени любопытнаго памятника; потому-то и не будемъ мы здѣсь вдаваться въ подробности біографіи Ѳеодосія, а только укажемъ на важнѣйшія черты его характера, насколько онъ выражается въ его сочиненіяхъ и проявляется въ частностяхъ его жизни. Оеодосій является намъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ и наиболѣе опредѣленныхъ типовъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы. Въ Ѳеодосіи видимъ мы богатую энергическую и могучую русскую натуру, на которую успѣло сильно повліять христіанство. Съ самаго дѣтства, онъ уже создаетъ себѣ высокое понятіе о назначеніи человѣка-христіанина, и всю жизнь свою стремится къ тому, чтобы не только осуществить это назначеніе въ себѣ самомъ, но и другихъ увлечь примѣромъ на тотъ же путь нравственнаго совершенствованія. Эта послѣдняя черта — желаніе дѣйствовать примѣромъ и не ограничиваться только поученіями, но постоянно примѣнять къ жизни все въ нихъ высказываемое, — выказываетъ намъ Ѳеодосія съ особенно привлекательной стороны. «Любовь къ Богу можетъ быть выражена только дѣлами, а не словами», говоритъ Ѳеодосій въ своемъ словѣ «о терпѣніи и любви», и постоянно, въ теченіи всей своей жизни, старается проводить ту-же самую мысль на практикѣ. Самъ постоянно занятый, онъ требовалъ, чтобы и братія работала неутомимо; заботился о томъ, чтобы всѣ, подобно ему, не придавали никакого значенія мірскимъ благамъ, а все-бы приносили на жертву ближнему своему. «Мы должны отъ трудовъ своихъ кормить убогихъ и странниковъ», говоритъ Ѳеодосій въ словѣ «о терпѣніи и милостыни», «а не пребывать въ праздности, переходя изъ кельи въ келью». И по его слову, монастырь Кіево-печерскій неустанно заботился о нуждающихся не толь-ко въ пищѣ матеріальной: братія, по удачному выраженію одного нашего ученаго, «готовила имъ пищу и другого рода: изъ монастыря выходили и расходились по лицу земли русской книги». Кто былъ поученѣе, тотъ или списывалъ, или даже переводилъ ихъ; другіе сшивали листы и переплетали. Всѣ трудились — и Ѳеодосій болѣе всѣхъ, не зная покоя ни днемъ, ни ночью: часто случалось, что онъ, въ ночное время, когда вся братія заснетъ, тайкомъ выходилъ изъ монастыря, уходилъ въ Кіевъ, и тамъ половину ночи проводилъ у городскихъ воротъ въ горячихъ спорахъ съ іудеями, стараясь убѣдить ихъ въ превосходствѣ православія надъ іудействомъ. Борьбу съ іудействомъ и католичествомъ, и притомъ борьбу ожесточенную, непримиримую, Ѳеодосій считалъ одною изъ первѣйшихъ обязанностей своихъ, — тѣмъ болѣе, что, подобно многимъ своимъ современникамъ, имѣлъ не совсѣмъ вѣрное понятіе о католическомъ вѣроисповѣданіи, какъ это видно изъ его посланія къ князю Изяславу, въ которомъ онъ старается разъяснить князю важнѣйшія отличія католицизма отъ православія. Но ревность на пользу распространенія православія не ослѣпляетъ его, не заставляетъ его забывать о той дѣятельной христіанской любви, которую онъ старался внушить братіи по отношенію къ ближнимъ: въ бѣдѣ, въ нуждѣ Ѳеодосій повелѣваетъ помогать и католикамъ наравнѣ съ православными, хоть и воспрещаетъ православнымъ ѣсть съ ними изъ одного блюда.
Строгій и взыскательный къ себѣ самому, Ѳеодосій не оказывалъ снисхожденія никому, и не терпѣлъ никакой неправды: такъ, напримѣръ, въ то время, когда любимецъ его, благочестивый Изяславъ, князь кіевскій, былъ свергнутъ съ великокняжескаго престола братомъ своимъ Святославомъ. — Ѳеодосій открыто укорялъ Святослава въ беззаконіи, и даже не хотѣлъ поминать его въ церкви за службой и продолжалъ поминать, по прежнему, Изяслава. Ни гнѣвъ Святослава, ни угрозы — ни что не могло заставить Ѳеодосія отступиться отъ своего взгляда, и онъ остался вѣренъ ему до конца.
Такая дѣятельность и твердость Ѳеодосія должны были повліять чрезвычайно сильно на окружавшую его братію и народъ, и по тому самому личность Ѳеодосія, какъ наиболѣе крупная въ ряду нашихъ проповѣдниковъ XI вѣка, особенно живо и вѣрно сохранилась въ народной памяти. Народъ и братія должны были несомнѣнно понимать его простую проповѣдь, въ которой онъ обращалъ свой проницательный, практическій взглядъ на самыя существенныя стороны современной русской жизни, заботясь объ искорененіи важнѣйшихъ недостатковъ и объ утвержденіи во всѣхъ правильнаго пониманія обязанностей христіанина. Тѣ сильные, энергически начертанные образцы, въ которые облекалъ онъ свою рѣчь, не могли не быть доступны и вразумительны большинству его слушателей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ поученій своихъ, Ѳеодосій особенно горячо возстаетъ противъ пьянства, сильно распространеннаго въ народѣ, сравниваетъ пьянаго съ бѣсноватымъ, и говоритъ: «бѣсноватый страдаетъ по неволѣ и можетъ удостоиться жизни вѣчной, а пьяный страдаетъ по собственной волѣ и будетъ преданъ на вѣчную муку; къ бѣсноватому прійдетъ іерей, сотворитъ надъ нимъ молитву и прогонитъ бѣса, а надъ пьянымъ хотя-бы сошлись іереи всей земли и сотворили молитву, — то все-же не прогнали-бы отъ него бѣса самовольнаго пьянства»…. «Помните», прибавляетъ Ѳеодосій въ другомъ поученіи своемъ, «что бѣсы радуются нашему пьянству, и, радуясь, приносятъ дьяволу жертву пьянственную отъ пьяницъ; дьяволъ-же говоритъ: „меня никогда не радуютъ столько жертвы язычниковъ, сколько веселитъ и радуетъ меня пьянство христіанъ, ибо пьяницы всегда способны дѣлать все, чего я захочу“…. „всѣ пьяные — мнѣ принадлежатъ, а трезвые — Богу“…. И посылаетъ дьяволъ бѣсовъ, говоритъ: „идите, поучайте христіанъ пьянству и повиновенію моей волѣ“.
Въ другомъ поученіи, укоряя братію въ нерадѣніи къ слову Божію и къ исполненію обязанностей, Ѳеодосій весьма удачно сравниваетъ иноковъ съ воинами и говоритъ: „когда надъ спящею ратью затрубитъ труба воинская, никто изъ воиновъ не станетъ спать: а Христову-то воину прилично-ли лѣниться? Вѣдь воины-то изъ пустой и преходящей славы позабываютъ и женъ, и дѣтей, и имѣніе. Что говорю я — имѣніе: они даже и голову свою ни во что не ставятъ, лишь бы имъ не посрамиться. А между тѣмъ они сами смертны, и слава ихъ кончается съ жизнью. Съ нами-же не то будетъ: если стерпимъ, борясь съ нашими супостатами, и одолѣемъ, то удостоимся вѣчной славы и несказанной чести“.
Вслѣдъ за Ѳеодосіемъ Печерскимъ, нельзя не упомянуть, въ числѣ нашихъ проповѣдниковъ, и Никифора, который былъ по происхожденію грекъ, получилъ воспитаніе въ Византіи и поставленъ былъ митрополитомъ кіевскимъ въ началѣ XII в. (отъ 1104—1121), и еще Кирилла, епископа Туровскаго, жившаго въ концѣ XII вѣка (онъ умеръ около 1182 г.). Несмотря на то, что грамотность успѣла сдѣлать большіе успѣхи въ теченіе XI столѣтія, мы все-же видимъ, что въ началѣ XII вѣка проповѣдь русская не измѣняетъ своего характера, и слѣдуетъ тому-же самому направленію, которымъ она шла и въ XI вѣкѣ: — измѣняется только внѣшняя форма ея.
Отъ митрополита Никифора дошли до насъ два посланія; оба писаны имъ для знаменитаго современника — Владиміра Мономаха. Одно изъ этихъ посланій было отвѣтомъ на запросъ князя: „почему отвергнуты были латины отъ святой, соборной и православной церкви?“ Митрополитъ, въ своемъ посланіи, весьма точно исчисляетъ тѣ 20 пунктовъ, на основаніи которыхъ произошло разъединеніе Западной и Восточной Церкви.
Гораздо болѣе любопытно для насъ другое посланіе митрополита Никифора къ Мономаху — „о постѣ“, не только по тѣмъ отношеніямъ митрополита къ великому князю, какія высказываются въ этомъ памятникѣ, но и по внѣшней, чрезвычайно замысловатой формѣ изложенія мыслей. Посланіе, какъ видно, написано по поводу великаго поста, во время котораго, по замѣчанію Никифора, самый уставъ церковный повелѣваетъ и князьямъ говорить нѣчто полезное. На этомъ основаніи, онъ говоритъ вообще о пользѣ поста, и, обращаясь къ Мономаху, прибавляетъ, что такому князю, какъ Мономахъ, не нужно говорить въ похвалу поста, такъ-какъ онъ въ благочестіи воспитанъ и постомъ воздоенъ, и всѣ, видя его воздержаніе во время поста, могутъ только изумляться ему. „Что скажу я такому князю“, продолжаетъ проповѣдникъ, „который, большею частью, спитъ на сырой землѣ, избѣгаетъ дома своего, отвергаетъ свѣтлое платье, по лѣсамъ ходитъ въ одеждѣ сиротинской (рабской, простой), и только по нуждѣ, входя въ городъ, надѣваетъ на себя одежду властелинскую? Что говорить такому князю, который другимъ любитъ готовить обѣды обильные, а самъ служитъ гостямъ, работаетъ своими руками, и подаяніе котораго доходитъ даже до полатей, другіе насыщаются и упиваются, а князь сидитъ и смотритъ только, какъ другіе ѣдятъ и пьютъ, довольствуясь самъ малою пищею и водою: — такъ угождаетъ онъ своимъ подданнымъ, сидитъ и смотритъ, какъ рабы его упиваются. Руки его ко всѣмъ простерты, никогда не прячетъ онъ своихъ сокровищъ, никогда не считаетъ золота или серебра, но все раздаетъ, а между тѣмъ казна его никогда не бываетъ пуста?“
Начертавъ эту прекрасную характеристику Мономаха, Никифоръ находитъ, что съ такимъ княземъ о постѣ говорить нечего, и предпочитаетъ побесѣдовать съ нимъ „о самомъ источникѣ, изъ котораго проистекаетъ въ людяхъ всякое добро и всякое зло“. Послѣ этого, проповѣдникъ объясняетъ князю, что въ душѣ человѣческой есть три главныя стремленія: словесное (разумъ), яростное (чувство) и желанное (воля). У этихъ трехъ главныхъ силъ души человѣческой есть, по выраженію Никифора, и особые слуги, черезъ которыхъ онѣ дѣйствуютъ. „Какъ ты, князь, сидя на своемъ престолѣ, дѣйствуешь черезъ своихъ воеводъ и слугъ по всей твоей странѣ: такъ и душа дѣйствуетъ по всему тѣлу черезъ пять слугъ своихъ, т. е. черезъ пять чувствъ“. Слѣдуетъ перечисленіе пяти чувствъ, и, между ними, Никифоръ особенное вниманіе обращаетъ на с_л_у_х_ъ и з_р_ѣ_н_і_е, при чемъ и отдаетъ преимущество послѣднему, такъ-какъ оно насъ не можетъ обманывать, и черезъ с_л_у_х_ъ очень часто можетъ доходить до насъ многое невѣрное; на этомъ-то свойствѣ слуха Никифоръ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе, желая, повидимому, внушить Мономаху, что онъ часто склоненъ бываетъ слушать ложные доносы. „Кажется мнѣ, князь мой“, говоритъ по этому поводу проповѣдникъ, „что, не будучи въ состояніи видѣть всего самъ, своими глазами, — ты слушаешь другихъ и въ отверстый слухъ твой входитъ стрѣла: такъ подумай объ этомъ, князь мой, изслѣдуй внимательнѣе, вспомни объ изгнанныхъ тобою, осужденныхъ, презрѣнныхъ, вспомни обо всѣхъ, кто на кого сказалъ что-нибудь, кто кого оклеветалъ, самъ разсуди таковыхъ, всѣхъ помяни и отпусти, да и тебѣ отпустится, отдай, да и тебѣ отдастся“. Въ заключеніе своего слова, Никифоръ прибавляетъ, какъ-бы въ утѣшеніе князю: „не опечалься, князь, словомъ моимъ, не подумай, что кто-нибудь пришелъ ко мнѣ съ жалобой, и потому я написалъ это тебѣ. Нѣтъ! такъ, просто пишу я тебѣ для напоминанія, такъ-какъ въ немъ нуждаются владыки земные; многимъ пользуются они, но за то и многимъ искушеніямъ подвержены“.
Запутанное и вычурное построеніе этого поученія, весьма замѣчательнаго по содержанію, тѣ сравненія, къ которымъ прибѣгаетъ авторъ для поясненія своей мысли, и отдаленная, искуственная связь, какую видимъ мы между началомъ „слова“ и послѣднимъ выводомъ изъ него, — все это указываетъ намъ въ проповѣдникѣ человѣка, который старался подражать современнымъ образцамъ византійскаго духовнаго краснорѣчія, страдавшаго полнѣйшимъ отсутствіемъ простоты въ развитіи мысли и большою искуственностью въ изложеніи. Эта искуственность особенно поражаетъ насъ при сравненіи проповѣди Никифора съ простымъ поученіемъ Л. Жидяты и съ энергическими, сжатыми, ясными проповѣдями Ѳеодосія.
Замѣтно, однако-же, что, по мѣрѣ того, какъ духовенство болѣе знакомилось съ образцами византійскаго духовнаго краснорѣчія, въ немъ еще болѣе пробуждалась страсть къ подражанію этимъ образцамъ, совершенно несвойственнымъ той почвѣ, на которой древнимъ проповѣдникамъ нашимъ приходилось дѣйствовать. Это стремленіе къ подражанію византійскимъ проповѣдникамъ высказывается особенно ясно и рѣзко въ твореніяхъ К_и_р_и_л_л_а, епископа Т_у_р_о_в_с_к_а_г_о. Онъ былъ епископомъ Туровскимъ въ концѣ XII в., между 1171—1182 г. Отъ него дошло до насъ девять словъ къ народу, три слова къ монахамъ, молитвы и каноны. Проповѣди къ народу сказаны были въ теченіе воскресныхъ дней, начиная отъ Вербной недѣли и до Троицына дня. Современники Кирилла Туровскаго, пораженные разнообразіемъ и блескомъ его краснорѣчія, сравнивали его съ Златоустомъ и называли „вторымъ златословеснымъ учителемъ“. И, дѣйствительно, поученія Кирилла чрезвычайно богаты весьма замѣчательными, поэтическими образами и уподобленіями; но за то онъ такъ часто придаетъ самымъ яснымъ событіямъ смыслъ иносказательный, символическій, такъ часто заставляетъ своихъ слушателей видѣть значеніе пророческое, преобразовательное въ самыхъ подробностяхъ, заимствованныхъ имъ изъ Св. Писанія, — что даже и наиболѣе образованные изъ тѣхъ слушателей, къ которымъ Кириллъ Туровскій обращался въ проповѣдяхъ своихъ, должны были, вѣроятно, многое въ нихъ не понимать. Съ пріемомъ изложенія въ проповѣдяхъ Кирилла Туровскаго насъ могутъ ознакомить слѣдующіе отрывки:
„Сегодня“ — такъ говоритъ проповѣдникъ въ своемъ словѣ на Вербное Воскресенье — „Христосъ отъ Виѳаніи входитъ въ Іерусалимъ, в_о_з_с_ѣ_в_ъ н_а ж_р_е_б_я о_с_л_я, да совершится пророчество Захаріино. Уразумѣвая пророчество это, станемъ веселиться;……. жребя — вѣровавшіе язычники, которыхъ посланные Христомъ Апостолы отрѣшили отъ лести дьявольской… Апостолы на жребя ризы возложили, на которыя сѣлъ Христосъ. Здѣсь видимъ обнаруженіе преславной тайны: ризы — это христіанскія добродѣтели Апостоловъ, которые своимъ ученіемъ устроили благовѣрныхъ людей въ престолъ Божій и вмѣстилище Св. Духу. Нынѣ народы постилаютъ Господу, по пути, одни — ризы свои, а другіе — вѣтви древесныя; добрый, правый путь міродержателямъ и всѣмъ вельможамъ Христосъ показалъ: постлавши этотъ путь милостынею и незлобіемъ, безъ труда входятъ они въ царство небесное; ломающіе-же вѣтви древесныя суть простые люди и грѣшники, которые сокрушеннымъ сердцемъ и умиленіемъ душевнымъ, постомъ и молитвами свой путь равняютъ и къ Богу приходятъ“.
Часто случается, что точно такое-же символическое значеніе пламенная фантазія Кириллова придаетъ и самымъ обыкновеннымъ явленіямъ природы, пользуясь ими, какъ средствомъ для внесенія въ проповѣдь свою образовъ и примѣровъ, которые, по его мнѣнію, должны были служить слушателямъ къ ближайшему истолкованію глубокаго смысла различныхъ событій Св. Писанія, по поводу воспоминанія которыхъ онъ говорилъ свои проповѣди. Такъ, напримѣръ, въ словѣ на Ѳомино Воскресенье онъ говоритъ:
„Нынѣ весна красуется, оживляя земную природу; вѣтры, тихо вѣя, подаютъ плодамъ обиліе, и земля, сѣмена питая, зеленую траву рождаетъ. Весна есть красная вѣра Христова, которая крещеніемъ возрождаетъ человѣческую природу; вѣтры — помыслы грѣхотвореній, которые, претворившись покаяніемъ въ добродѣтель, приносятъ душеполезные плоды; земля-же нашей природы, принявъ на себя Слово Божіе, какъ сѣмя, и боля постоянно страхомъ Божіимъ, рождаетъ духъ спасенія. Нынѣ новорожденные агнцы и юнцы скачутъ быстро, и весело возвращаются къ матерямъ своимъ, а пастухи на свирѣляхъ съ веселіемъ хвалятъ Христа: агнцы — это кроткіе люди изъ язычниковъ, а юнцы — кумирослужители невѣрныхъ странъ, которые, Христовымъ вочеловѣченьемъ и Апостольскимъ ученьемъ, и чудесами, къ св. Церкви возвратившись, сосутъ млеко ученія: а учители Христова стада, о всѣхъ моляся, Христа Бога славятъ, собравшаго всѣхъ волковъ и агнцевъ въ одно стадо. Нынѣ древа лѣторосли испускаютъ, а цвѣты — благоуханіе, и вотъ, уже въ садахъ слышится сладкій запахъ, и дѣлатели, съ надеждою трудяся, плододавца Христа призываютъ: прежде были мы, какъ древа дубравныя, неимѣющія плодовъ; а нынѣ Христова вѣра привилась къ нашему невѣрію, и, держась корня Іессеева, испуская добродѣтели, какъ цвѣты. ожидаемъ райскаго паки-бытія о Христѣ, и святители, трудясь о церкви, ожидаютъ отъ Христа награды. Нынѣ оратаи слова, словесныхъ воловъ къ духовному ярму приводя, и крестное рало въ мысленныхъ браздахъ погружая, и проводя бразду покаянія, всыпая въ нее сѣмя духовное, веселятся надеждами будущихъ благъ“.
Многія изъ словъ Кирилла Туровскаго напоминаютъ намъ церковныя пѣсни и стихиры, которыя и доселѣ еще поются и читаются въ нашей Церкви. Самъ проповѣдникъ, окончивъ свою проповѣдь на Вербное Воскресенье, восклицаетъ: „сокративши слово, пѣснями, какъ цвѣтами, Святую Церковь увѣнчаемъ и украсимъ праздникъ, и вознесемъ славословіе Богу, и возвеличимъ Христа, Спасителя нашего“. Одна изъ проповѣдей Кирилла Туровскаго — ,,Слово на Вознесеніе» — представляетъ собою почти дословное повтореніе и распространеніе церковныхъ пѣснопѣній, сопровождающихъ празднованье этого дня. По справедливому замѣчанію одного русскаго ученаго, такія слова, вмѣстѣ съ самыми пѣснопѣніями церкви, не могли не дѣйствовать на воображеніе воспріимчивыхъ людей изъ народа: подъ вліяніемъ ихъ, развивался совершенно новый родъ народной поэзіи, — такъ называемые, д_у_х_о_в_н_ы_е с_т_и_х_и. Особенное вліяніе на образованіе ихъ должны были имѣть такія слова, предметъ которыхъ. выходя за точные предѣлы Св. Писанія, да-валъ большой просторъ религіозной фантазіи проповѣдника. А такія отступленія отъ разсказа Св. Писанія мы встрѣчаемъ у Кирилла Туровскаго нерѣдко и воображеніе его помогаетъ ему иногда въ дополненіи разсказа евангельскаго цѣлыми разговорами. которые ведутъ между собою выводимыя имъ въ проповѣди лица. Одно изъ его ,,словъ", именно «Слово о душѣ и тѣлѣ человѣческомъ», изложено въ видѣ п_р_и_т_ч_и о х_р_о_м_ц_ѣ и с_л_ѣ_п_ц_ѣ.
Вообще говоря, если мы сравнимъ всѣ извѣстныя намъ сочиненія Кирилла Туровскаго не только съ современною ему русскою литературою поученій и проповѣдей, но и съ духовною литературою двухъ послѣдующихъ вѣковъ, мы должны будемъ признать, что Кириллъ представляетъ собою замѣчательный образецъ вліянія, оказаннаго литературою византійскою на развитіе нашей литературы и образованности.


III.
правитьИзборники. — Монастырская литература. — Житія святыхъ и лѣтопись. — Несторъ.
правитьКакъ извѣстно, обычнымъ слѣдствіемъ распространенія христіанства и грамотности, у всѣхъ народовъ историческихъ, бывало то, что народъ начиналъ яснѣе сознавать свою жизнь. и, подъ вліяніемъ тѣхъ, которымъ удалось внести въ эту жизнь новыя духовныя начала, въ немъ возбуждалась потребность отмѣчать и записывать всѣ явленія жизни, которыя дѣйствительно были почему-нибудь замѣчательны или казались замѣчательными, сообразно понятіямъ современниковъ. То-же самое видимъ мы и въ древней Руси. Византія просвѣщаетъ насъ христіанствомъ и полагаетъ первыя основы нашей грамотности на общедоступномъ народномъ языкѣ; она-же даетъ намъ не только азбуку и книги богослужебныя: она вноситъ къ намъ и большой запасъ сочиненій, пересажденныхъ съ византійской почвы литературной на древне-болгарскую, и, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ образцами своего искусства, даритъ насъ образцами литературы. Въ числѣ того литературнаго запаса, который перенесенъ былъ къ намъ на Русь съ византійско-болгарской почвы, мы видимъ, прежде всего, П_с_а_л_т_и_р_ь, Е_в_а_н_г_е_л_і_е и А_п_о_с_т_о_л_ъ (дѣянія апостольскія и посланія), и притомъ не только какъ книги богослужебныя, но какъ любимое и общераспространенное чтеніе. Особенно распространены были Псалтыри, Евангелія и Апостолы съ т_о_л_к_о_в_а_н_і_я_м_и. Толкованія на пророковъ. переведенныя въ Болгаріи, списаны были въ Россіи уже въ первой половинѣ XI вѣка. Рядомъ съ св. Писаніемъ, въ первыя же времена распространенія христіанства на Руси, являются и нѣкоторыя писанія Отцевъ и Учителей Церкви: св. Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Григорія Богослова, Ѳеодора Студита, Ефрема Сирина, Іоанна Дамаскина. Дороговизна и рѣдкость книгъ вынуждала къ тому. что далеко не всѣ могли пользоваться болѣе или менѣе полными собраніями сочиненій Отцевъ Церкви и довольствовались отрывками изъ нихъ, выписками. Отсюда — цѣлая масса занесенныхъ и постоянно подновляемыхъ и пополняемыхъ у насъ на Руси и_з_б_о_р_н_и_к_о_в_ъ отеческихъ сочиненій, подъ различными названіями: З_л_а_т_о_с_т_р_у_е_в_ъ, И_з_м_а_р_а_г_д_о_в_ъ, Т_о_р_ж_е_с_т_в_е_н_н_и_к_о_в_ъ, З_л_а_т_ы_х_ъ ц_ѣ_п_е_й, З_л_а_т_ы_х_ъ м_а_т_и_ц_ъ и П_ч_е_л_ъ. Большая часть этихъ сборниковъ состоитъ изъ поученій, толкованій на различныя мѣста св. Писанія и выписокъ изъ сочиненій Отцевъ Церкви; но нѣкоторые имѣютъ «свой, рѣзко-опредѣленный типъ, не допускающій отождествленія или смѣшенія съ другимъ типомъ. Таковы: З_л_а_т_о_у_с_т_ъ, Т_о_р_ж_е_с_т_в_е_н_н_и_к_ъ, И_з_м_а_р_а_г_д_ъ. Въ составъ этихъ типическихъ сборниковъ входятъ любопытнѣйшіе литературные памятники древней Россіи, богатые многообразными данными для исторіи народнаго быта и обычаевъ, права, поэзіи, миѳологіи» 1). Во главѣ всѣхъ подобныхъ изборниковъ стоитъ знаменитый «И_з_б_о_р_н_и_к_ъ С_в_я_т_о_с_л_а_в_о_в_ъ», первоначально переведенный съ греческаго на болгарскій языкъ и затѣмъ передѣланный съ болгарскаго текста на русскій языкъ для кіевскаго князя Святослава въ 1073 г. Эта великолѣпная рукопись XI вѣка, писанная на пергаменѣ уставнымъ письмомъ, заключаетъ въ себѣ собраніе богословскихъ статей, служащихъ толкованіемъ на различныя мѣста св. Писанія, краткое изложеніе византійской лѣтописи и небольшія статьи содержанія философскаго (напр. о естествѣ, о собствѣ, о количествѣ и качествѣ и т. п.) и риторическаго (напр. статьи «о образѣхъ», т. е. о тропахъ и фигурахъ). Текстъ рукописи, въ которой переписчикъ не вездѣ съумѣлъ сгладить слѣды болгарскаго правописанія, украшенъ великолѣпными заставками, рамками, съ сидящими на нихъ павлинами, знаками зодіака и — что всего важнѣе — изображеніемъ князя Святослава съ семействомъ, драгоцѣннѣйшимъ памятникомъ нашей древней рукописной миніатюры 2).
1) Отчетъ объ Увар. прем. 1878. Статья Тихонравова о книгѣ Галахова. Стр. 39.
2) Памятникъ этотъ помѣщенъ нами во главѣ нашего сочиненія.
Кромѣ этихъ сборниковъ, также очень рано, при самомъ началѣ письменности, появляются на Руси и п_а_т_е_р_и_к_и (отечники — т. е. сборники житій св. Отцевъ) и сочиненія чисто историческаго содержанія — х_р_о_н_и_к_и и х_р_о_н_о_г_р_а_ф_ы византійскіе. Наши поученія, посланія и проповѣди, естественно, получаютъ свое начало отъ подобныхъ-же произведеній литературы византійской, и всѣ остальные роды древне-русской литературы могли исходить только изъ этого же самаго источника, только на этой почвѣ могли основываться, примѣняясь однако-же къ современнымъ русскимъ потребностямъ, понятіямъ и взглядамъ. Благочестивые предки наши, читая греческія лѣтописи и патерики, конечно, должны были изъ нихъ по-черпнуть первое побужденіе къ тому, чтобы создать нѣчто подобное и у насъ на Руси, гдѣ передъ ихъ глазами совершалась жизнь яркая, разнообразная, богатая подвигами мужества и благочестія, достойными изумленія.
Выше уже видѣли мы, что первыми писателями нашими явились лица духовныя; что они-же явились и первыми распространителями грамотности и просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ. Хотя мы увидимъ далѣе, что въ числѣ свѣтскихъ лицъ — князей, княгинь, дружинниковъ, окружавшихъ князя — являлись охотники собирать и читать книги, однако же преобладающимъ по грамотности, преимущественно грамотнымъ сословіемъ, въ теченіе всего древнѣйшаго періода нашей литературы является все-же духовенство и монашество. Монастыри и въ этотъ древнѣншій періодъ (XI, XII вѣк.), и въ гораздо болѣе поздній (XIV, ХV и XVI вѣк.) были у насъ главными разсадниками просвѣщенія и книжнаго ученія, и даже, въ, болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, главными складами, изъ которыхъ распространялись по лицу земли русской переписываемыя монахами книги. Отдѣленные отъ мірской суеты и заботъ стѣнами монастырской ограды, огражденные ею-же и отъ внѣшнихъ опасностей, монахи болѣе, чѣмъ кто-либо другой, имѣли возможности и досуга для занятій письменностью и литературою. Здѣсь-то, въ стѣнахъ монастырей, суждено было одновременно зародиться и нашимъ русскимъ п_а_т_е_р_и_к_а_м_ъ, и нашимъ русскимъ л_ѣ_т_о_п_и_с_я_м_ъ, такъ-какъ монаху, изъ его спокойной и безмятежной среды. представлялось почти столько-же удобствъ къ наблюденію за внутренней жизнью монастыря. сколько и къ наблюденію хода внѣшнихъ событій, совершавшихся внѣ стѣнъ обители. «При тогдашнемъ положеніи духовныхъ, въ особенности монаховъ» — говоритъ нашъ русскій историкъ — «они имѣли возможность знать современныя событія во всей ихъ подробности и пріобрѣтать отъ вѣрныхъ людей свѣдѣнія о событіяхъ отдаленныхъ. Въ монастырь приходилъ князь, прежде всего, сообщить о замышляемомъ предпріятіи; духовныя лица отправлялись обыкновенно послами, слѣдовательно, имъ лучше другихъ былъ извѣстенъ ходъ переговоровъ; должно думать, что духовныя лица, какъ первые грамотѣи, были и первыми дьяками, первыми секретарями нашихъ древнихъ князей. Припомнимъ также, что въ затруднительныхъ обстоятельствахъ князья обыкновенно прибѣгали къ совѣтамъ духовенства; прибавимъ, наконецъ, что духовныя лица имѣли возможность знать также очень хорошо самыя подробности походовъ, ибо сопровождали войска, и, будучи сторонними наблюдателями и вмѣстѣ приближенными людьми къ князьямъ, могли сообщить о военныхъ дѣйствіяхъ болѣе вѣрныя свѣдѣнія, нежели сами ратные люди, находившіеся въ дѣлѣ».
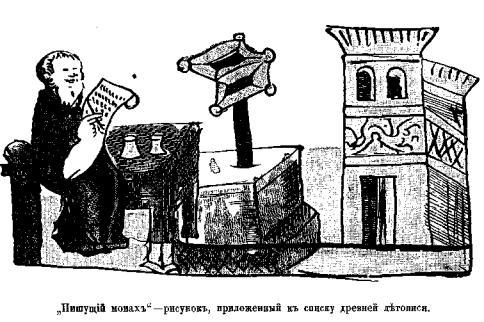
Весьма понятно, что, при такомъ важномъ значеніи въ современномъ обществѣ духовныя лица, и преимущественно монахи, должны были уже очень рано начать записывать краткія, отрывочныя замѣтки о происходившихъ передъ ними событіяхъ историческихъ или свѣдѣнія о современныхъ имъ лицахъ, или, наконецъ, преданія и разсказы старыхъ людей объ отдаленномъ прошломъ русской земли. Предполагаютъ даже, что, первоначально, такія краткія, отрывочныя замѣтки записывались духовенствомъ на поляхъ «п_а_с_х_а_л_ь_н_ы_х_ъ т_а_б_л_и_ц_ъ», т. е. небольшихъ кускахъ пергамена, на которыхъ за нѣсколько лѣтъ впередъ бывали расчитаны и отмѣчены дни, въ которые праздникъ Пасхи долженъ былъ выпасть въ томъ или другомъ году. Такія пасхальныя таблицы, по обычаю того времени, разсылались въ извѣстные сроки по церквамъ и монастырямъ, и духовенству — въ этотъ періодъ большой дороговизны на всѣ письменныя принадлежности — должна была весьма естественно прійти въ голову мысль о пополненіи пробѣловъ пергамена пасхальныхъ таблицъ своими бѣглыми помѣтками. Эти помѣтки могли равно относиться и къ исторической жизни той или другой мѣстности, и къ внутренней жизни монастыря. Монахъ помѣщалъ въ этихъ пробѣлахъ, противъ извѣстнаго года, и свѣдѣнья о войнѣ князей съ и_н_о_п_л_е_м_е_н_н_и_к_а_м_и, и о страшномъ падежѣ на скотъ, и о бурѣ, опустошившей окрестности обители, и о кровавой «хвостатой звѣздѣ» (кометѣ), появлявшейся на горизонтѣ, и о подвигахъ благочестія, совершонныхъ во славу Божію однимъ изъ братіи, и о враждѣ, «посѣянной дьяволомъ» между князьями, и о чудесахъ мѣстной иконы. Съ такою-же точно простотою, противъ нѣкоторыхъ годовъ, тотъ-же монахъ выставлялъ слова: «была тишина» (т. е. ни войны, ни усобицъ не было), или даже еще короче и яснѣе: — «ничего не было» (въ смыслѣ: не случилось ничего замѣчательнаго).
Но эти первоначальныя и краткія историческія записи не дошли до насъ въ ихъ простѣйшемъ видѣ. По мѣрѣ того, какъ, съ одной стороны, запасъ ихъ сталъ увеличиваться, а съ другой — грамотность стала распространяться все болѣе и болѣе въ средѣ нашего духовенства и монашества, явились и такіе люди, которые уже не стали довольствоваться краткими замѣтками на пасхальныхъ таблицахъ, а захотѣли создать нѣчто болѣе цѣлое, болѣе полное, принявъ за образецъ хроники византійскія. И вотъ, изъ отрывочныхъ сказаній, замѣтокъ, записей, изъ свѣдѣній, почерпнутыхъ у византійскихъ хронистовъ или заимствованныхъ прямо изъ устъ очевидцевъ, мало-по-малу создались тѣ лѣтописные своды наши, которые почти одновременно зародились на разныхъ концахъ древней Руси, въ тѣхъ мѣстахъ ея, которыя были болѣе другихъ богаты историческою жизнью: въ Кіевѣ и Новѣгородѣ, въ Черниговѣ, въ Ростовѣ, на Волыни.
Преданіе называетъ инока Кіево-печерскаго монастыря, Н_е_с_т_о_р_а (жившаго въ ХІ вѣкѣ и въ началѣ XII), «древнѣйшимъ лѣтописцемъ русскимъ», однимъ изъ первыхъ составителей нашего лѣтописнаго свода, столь драгоцѣннаго для потомства, извѣстнаго подъ общимъ заглавіемъ: «Се повѣсти времянныхъ лѣтъ, откуду есть пошла Русская земля, кто въ Кіевѣ нача первѣе княжити и откудѵ Русская земля стала есть». Все, что извѣстно намъ о Несторѣ, ограничивается очень скудными свѣдѣніями о его пребываніи въ Кіево-печерской обители. Достовѣрно знаемъ только то, что 17-лѣтнимъ юношей пришелъ онъ, въ 1073 году, въ монастырь (слѣдовательно, родился около 1056—1057 г.), гдѣ и былъ постриженъ игуменомъ Стефаномъ, а потомъ поставленъ въ дьяконы. Знаемъ также, что въ 1091 году ему поручено было, вмѣстѣ съ двумя другими иноками, отыскать мощи св. Ѳеодосія Печерскаго, что и было имъ исполнено. Подробное изученіе «П_о_в_ѣ_с_т_и в_р_е_м_я_н_н_ы_х_ъ л_ѣ_т_ъ» привело однакоже новѣйшихъ ученыхъ нашихъ къ тому, несомнѣнному, выводу, что Несторъ не былъ ея авторомъ, точно такъ-же, какъ не былъ авторомъ ея и Сильвестръ-игуменъ, котораго имя попадается на многихъ древнѣйшихъ спискахъ этого памятника. «Но имя составителя и не важно…» замѣчаетъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей — «гораздо важнѣе то обстоятельство, что сводъ этотъ, дошедшій до пасъ въ спискѣ XIV вѣка, есть въ дѣйствительности памятникъ XII вѣка, и что, разбирая его по частямъ, мы встрѣчаемъ матерьялы еще болѣе древніе». Очевидно, что составитель свода много собралъ свѣдѣній отъ современниковъ-очевидцевъ, изъ которыхъ даже и называетъ двоихъ по именамъ: одинъ — Гюрята Роговичъ, новгородецъ, — вѣроятно, торговый человѣкъ, сообщившій ему свѣдѣнія о дальнемъ сѣверѣ Россіи, о Печорѣ, Югрѣ; другой — 90-лѣтній старецъ Янъ (умершій въ 1106 году), сынъ Вышаты, Ярославова воеводы, внукъ посадника новгородскаго, Остромира, впослѣдствіи бывшій и самъ воеводою и важнымъ лицомъ при князьяхъ, состоявшій въ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ къ самому Ѳеодосію Печерскому.
Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что и въ средѣ самой братіи Кіево-печерскаго монастыря много было людей, отъ которыхъ такъ-же, какъ отъ Яна и Гюряты, дошли до лѣтописца свѣдѣнія о разныхъ концахъ Руси, о бытѣ племенъ, обитавшихъ близь предѣловъ ея, о распространеніи христіанства въ различныхъ областяхъ русскихъ и т. п. Намъ извѣстно, что между братіею кіево-печерскою, въ разное время, успѣли перебывать люди всѣхъ сословій и всѣхъ состояній; были русскіе и иноплеменники, были люди, много странствовавшіе и много видавшіе на своемъ вѣку. Тутъ видимъ и Варлаама — сына боярина, и Ефрема — княжаго конюшаго, и богатаго купца изъ Торопца — Исаакія Затворника, и Арефу — родомъ изъ дальняго Полоцка, и Ефрема (впослѣдствіи епископа переяславскаго) — грека родомъ, и Моѵсея — венгерца, долго жившаго въ плѣну у польскаго короля Болеслава, и Никона Сухого — находившагося долго въ плѣну у половцевъ и потому, вѣроятно, близко знакомаго съ ихъ нравами и обычаями, и, наконецъ. Іеремію Прозорливаго, который былъ очевидцемъ крещенія русской земли при Владимірѣ Равноапостольномъ.
Преданія объ этихъ братіяхъ не вымирали въ стѣнахъ Кіево-печерской обители, и очень рано послужили основою для отдѣльныхъ сказаній, которыми и пользовался составитель древнѣйшаго свода. Такъ, въ разсказѣ объ ослѣпленіи Василька Ростиславича, какой-то В_а_с_и_л_і_й разсказываетъ, какъ князь Давидъ Игоревичъ, державшій у себя въ плѣну Василька, посылалъ его съ порученіемъ къ этому князю; этотъ разсказъ составляетъ отдѣльное сказаніе, подобное сказанію о убіеніи Бориса и Глѣба, быть можетъ заимствованному изъ житія. Ясно, что у насъ рано начали записываться подробности событій, поразившія современниковъ, и черты жизни лицъ, прославившихся своею святостью. Такому же отдѣльному сказанію могло принадлежать и заглавіе, нынѣ приписываемое всему своду: ,,Се повѣсти времянныхъ лѣтъ" и проч. Эта первоначальная повѣсть, составленная изъ источниковъ иноземныхъ и изъ мѣстныхъ преданій, вѣроятно, доходила до начала княженія Олега въ Кіевѣ, и была писана безъ годовъ, что тоже можетъ служить признакомъ ея первоначальной отдѣльности. Другимъ источникомъ послужили для нея краткія погодныя записи происшествій, которыя непремѣнно должны были существовать, ибо иначе откуда-бы зналъ лѣтописецъ годы смерти князей, походовъ, небесныхъ явленій и т. п. Между этими записями есть и такія, достовѣрность которыхъ и теперь еще можетъ быть провѣрена, напр., упоминаніе о явленіи кометы въ 911 г. Такія записи велись по крайней мѣрѣ съ того времени, какъ Олегъ сѣлъ въ Кіевѣ, велись по годамъ княженій, и потомъ этотъ счетъ переложенъ былъ составителемъ свода на счетъ годовъ отъ сотворенія міра" 1).
1) «Русская Исторія» Бестужева-Рюмина, стр. 23—25.
Кромѣ этихъ источниковъ, составитель пользовался и многими другими. Къ числу такихъ источниковъ слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, в_и_з_а_н_т_і_й_с_к_і_я х_р_о_н_и_к_и, изъ которыхъ онъ заимствуетъ свѣдѣнія о событіяхъ въ Византіи, современныхъ событіямъ на Руси; во-вторыхъ — отдѣльныя ж_и_т_і_я болгарскія и собственно-русскія; напр. житіе Кирилла и Меѳодія, древнія житія св. Ольги, св. Владиміра, св. Бориса и Глѣба, Наконецъ, онъ пользовался, при составленіи своей лѣтописи, и особаго рода Палеею — краткою, историческою, совершенно отличною отъ Толковой, о которой мы упоминали выше. Опа не составляла части Хронографа и была прямо переведена съ греческаго, а не съ болгарскаго. Кромѣ этого, замѣтно знакомство и съ нѣкоторыми другими произведеніями византійской литературы (напр., со ,,сказаніемъ о послѣднихъ временахъ". которое приписываютъ Меѳодію Патарскому), и въ особенности — обширная начитанность въ Св. Писаніи. Лѣтописецъ постоянно почерпаетъ оттуда подтвержденія своимъ выводамъ и заключеніямъ, и выписываетъ мѣста, на которыя опирается, какъ на основаніе своихъ воззрѣній и тѣхъ нравоученій, какія, онъ изъ событія извлекаетъ. Эта-же начитанность въ Св. Писаніи и то глубоко-религіозное настроеніе, которымъ отличается вся древне-русская образованность, налагаютъ особую печать и на произведеніе лѣтописца, который объясняетъ себѣ всѣ явленія историческія не иначе, какъ съ точки зрѣнія исключительно-религіозной и монашеской. Все дурное и злое, по мнѣнію лѣтописца, совершается по внушенію бѣсовъ и «с_о_б_л_а_з_н_е_н_і_ю» дьявола, точно такъ-же, какъ все доброе можетъ совершаться только при особой помощи свыше; всѣ бѣдствія, какъ-то: нашествіе иноплеменниковъ, голодъ, моръ и пр., насылаются на насъ «по гнѣву Божію». Многія, не совсѣмъ обыкновенныя, явленія природы, по его мнѣнію, слѣдуетъ принимать за «знаменья, посылаемыя намъ свыше» и рѣдко предвѣщающія что-либо хорошее. «Знаменья на небѣ», говоритъ онъ, «или въ звѣздахъ, или въ солнцѣ, иди въ птицахъ, или въ другомъ чемъ, — не къ добру бываютъ; такія знаменья предвѣщаютъ дурное: начало войны, либо голодъ, либо смерть». Признавая силу и значеніе, которое бѣсы могутъ имѣть въ жизни человѣка, лѣтописецъ вѣритъ и въ силу колдовства (волхвованія), и, въ доказательство того, что многое «отъ колдовства сбывается», приводитъ иногда на страницахъ своей лѣтописи тѣ сказанія и вымыслы, которыми часто наполнялись, въ то отдаленное время, не только наши лѣтописи, но и хроники Византіи, и хроники всей остальной Европы.
«Повѣсть времянныхъ лѣтъ» начинается съ небольшого вступленія, въ которомъ, подражая византійскимъ хронографамъ, нашъ лѣтописецъ, прежде всего, разсказываетъ намъ, какъ Симъ, Хамъ и Афетъ — сыновья Ноевы — раздѣлили между собою землю послѣ потопа. Вслѣдъ за подробнымъ перечисленіемъ странъ и народовъ древняго міра, лѣтописецъ замѣчаетъ, что, когда послѣ столпотворенія вавилонскаго Богъ раздѣлилъ всѣ народы на 72 языка, то племя Афетово заняло западъ и сѣверныя страны; отъ этого-то Афетова племени производитъ онъ и славянъ, и затѣмъ уже переходитъ къ описанію ихъ жизни, сначала на берегахъ Дуная, а потомъ къ разселенію ихъ по рѣкамъ и землямъ въ направленіи къ сѣверо-востоку до Ильменя, Оки и притоковъ Днѣпра. При этомъ онъ описываетъ обычаи и нравы различныхъ племенъ славянскихъ; потомъ говоритъ подробно о просвѣщеніи Моравіи христіанствомъ, и съ 862 года, съ призванія варяговъ изъ за-моря ильменскими славянами, уже ведетъ подробную лѣтопись всѣмъ замѣчательнымъ событіямъ, бывшимъ на Руси до его времени и въ его время, и доводитъ ее почти до конца княженія Святополка Изяславича, заканчивая свой разсказъ 1110 годомъ. Весь древнѣйшій періодъ нашей исторіи, до начала XI столѣтія, излагается въ видѣ отдѣльныхъ, округленныхъ и законченныхъ небольшихъ разсказцевъ. Вѣроятно, лѣтописецъ и помѣщалъ ихъ на страницы своего произведенія почти въ томъ видѣ, въ какомъ почерпалъ ихъ изъ устъ народа, въ памяти котораго они были живы и получили эту простую форму. Съ начала XI столѣтія разсказъ становится подробнѣе и обстоятельнѣе: видно, что лѣтописецъ здѣсь уже могъ руководиться разсказами современниковъ и очевидцевъ. Въ тѣхъ разнообразныхъ отрывкахъ изъ «Повѣсти времянныхъ лѣтъ» и другихъ лѣтописей русскихъ, какіе будутъ приведены нами въ концѣ этой главы, легко будетъ замѣтить эти оттѣнки въ изложеніи событій у нашего древняго лѣтописца.
Вообще, «Повѣсть времянныхъ лѣтъ» является намъ, — по очень вѣрному замѣчанію историка Соловьева, — образцомъ лѣтописца всероссійскаго, т. е. посвященнаго интересамъ всей тогдашней Руси, между тѣмъ, какъ первоначально были, вѣроятно, только мѣстныя лѣтописи, которыя и ограничивались одними мѣстными событіями, какъ Новгородская — новгородскими, и Ростовская — ростовскими. При составленіи позднѣйшихъ лѣтописныхъ сводовъ, «Повѣсть времянныхъ лѣтъ» служила, по-видимому, образцомъ для всѣхъ составителей, и почти цѣликомъ вносилась во всѣ лѣтописи, писанныя послѣ 1110 года, гдѣ-бы онѣ ни писались — въ Кіевѣ, Черниговѣ, Полоцкѣ, въ Суздалѣ, на Волыни или въ Новѣгородѣ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ заключать, чтобы всѣ лѣтописи, писавшіяся на различныхъ концахъ Россіи, были совершенно сходны между собою по изложенію. Каждая лѣтопись, напротивъ того, носитъ на себѣ особый отпечатокъ, и совершенно соотвѣтствуетъ, по способу изложенія, той мѣстности и тому населенію, среди котораго она зародилась. Вотъ что говоритъ объ этомъ историкъ нашъ, Соловьевъ:
«До насъ, отъ описываемаго времени (отъ XII столѣтія), дошли двѣ лѣтописи сѣверныя — Новгородская и Суздальская, и двѣ южныя — Кіевская (съ явными вставками изъ Черниговской, Полоцкой и, вѣроятно, изъ другихъ лѣтописей) и Волынская. Новгородская лѣтопись отличается краткостью, сухостью разсказа; такое изложеніе происходитъ, во-первыхъ, отъ бѣдности содержанія: Новгородская лѣтопись есть лѣтопись событій одного города, одной волости: съ другой стороны, нельзя не замѣтить и вліянія народнаго характера, ибо въ рѣчахъ новгородскихъ людей, внесенныхъ въ лѣтопись, замѣчаемъ также необыкновенную краткость и силу; какъ видно, новгородцы не любили разглагольствовать, они не любили даже договаривать своей рѣчи и однако хорошо понимаютъ другъ друга: можно сказать, что дѣло служитъ у нихъ окончаніемъ рѣчи. Такова знаменитая рѣчь Твердислава: ,,тому есмь радъ, оже вины моей нѣту; а вы, братье, въ посадничьствѣ и въ князехъ». Разсказъ южнаго лѣтописца, наоборотъ, отличается обиліемъ подробностей, живостью, образностью, можно сказать — художественностью; преимущественно Волынская лѣтопись отличается особеннымъ, поэтическимъ складомъ рѣчи: нельзя не замѣтить здѣсь вліянія южной природы, характера южнаго народонаселенія; можно сказать, что новгородская лѣтопись относится къ южнымъ — Кіевской и Волынской — какъ поученіе Луки Жидяты относится къ словамъ Кирилла Туровскаго. Что-же касается до разсказа суздальскаго лѣтописца, то онъ сухъ, не имѣя силы новгородской рѣчи, и вмѣстѣ многоглаголивъ безъ художественности рѣчи южной; можно сказать, что южныя лѣтописи — Кіевская и Волынская — относятся къ Сѣверной и Суздальской, какъ «Слово о полку Игоревѣ» относится къ сказанію о Мамаевомъ побоищѣ".

Нестору приписывается не одна «Повѣсть времянныхъ лѣтъ»: — онъ извѣстенъ, какъ несомнѣнный авторъ нѣкоторыхъ житій святыхъ. Онъ не былъ первымъ и древнѣйшимъ авторомъ этого рода произведеній у насъ на Руси, потому что и до него, вѣроятно, уже были написаны нѣкоторыя житія святыхъ, напр., Св. Владиміра и Св. Ольги. Несомнѣнно однакоже, что Несторъ былъ однимъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ собирателей того драгоцѣннаго матерьяла преданій и свѣдѣній о святыхъ подвижникахъ русскихъ, изъ которыхъ впослѣдствіи, при помощи другихъ тружениковъ, образовались наши русскіе п_а_т_е_р_и_к_и (отечники) или с_б_о_р_н_и_к_и ж_и_т_і_й. Происхожденіе этого рода сборниковъ, и то значеніе, которое они съ теченіемъ времени пріобрѣли въ древне-русской жизни, тѣсно связаны съ значеніемъ въ древней Руси монастырей вообще и, въ особенности, монастыря Кіево-печерскаго, о которомъ мы должны будемъ сказать здѣсь нѣсколько словъ, необходимыхъ для пополненія свѣдѣній о древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы.
Выше (на стр. 23-й и 24-й) мы уже говорили о значеніи монастырей, какъ центровъ, изъ которыхъ сильными лучами расходилось книжное ученіе во всѣ стороны земли русской. Но нельзя не замѣтить, что не всѣ монастыри русскіе пользовались у насъ, въ древнѣйшемъ періодѣ нашей исторіи, одинаковымъ значеніемъ. Кіево-печерскій монастырь, основанный гораздо позже многихъ другихъ, въ княженіе Изяслава Ярославича, — въ короткое время возвысился надъ всѣми остальными монастырями русскими и, подъ вліяніемъ различныхъ благопріятныхъ условій, явился замѣчательнымъ разсадникомъ просвѣщенія на древне-русской почвѣ. Къ числу благопріятныхъ условій, способствовавшихъ возвышенію его, слѣдуетъ, конечно, отнести прежде всего то, что Кіево-печерскій монастырь былъ основанъ не греческими выходцами, а русскими людьми, въ средѣ которыхъ христіанство успѣло уже на столько укорениться, что они почувствовали потребность и въ устройствѣ монастыря, не похожаго на остальные монастыри, уже существовавшіе на Руси. И дѣйствительно, изъ небольшаго собранія пещеръ, въ которыхъ, около отшельника Антонія, сошлись съ разныхъ концевъ земли русской подобные ему отшельники, жаждавшіе духовныхъ подвиговъ и уединенія, — образовалась обитель Печерская, затмившая всѣ монастыри того времени суровостью и простотою быта своихъ иноковъ и — что еще важнѣе — ихъ ревностною, усердною дѣятельностью на пользу распространенія Христова ученія и свѣта книжной мудрости по лицу русской земли. Быстрому возвышенію Кіево-печерской обители среди другихъ обителей русскихъ, конечно, должно было много способствовать то направленіе, какое, въ стѣнахъ новой обители, было придано иноческой жизни энергическою личностью Ѳеодосія Печерскаго. Намъ уже пришлось, въ одной изъ предъидущихъ главъ, очертить вкратцѣ его способъ дѣйствій въ этомъ отношеніи, и упомянуть о замѣчательной практической мудрости, на основаніи которой Ѳеодосіи старался дѣйствовать на братію не только словомъ, а, преимущественно, дѣломъ и примѣромъ. Долговременное и дѣятельное игуменство Ѳеодосія не могло остаться безъ вліянія на дальнѣйшую судьбу Кіево-печерскаго монастыря, который стадъ собирать въ стѣнахъ своихъ лучшія русскія силы и обращать ихъ на дѣло духовнаго и умственнаго просвѣщенія народа. Сюда стекались князья, бояре и простолюдины, убѣгая раздоровъ и опасностей современной жизни, и отсюда выходили во всѣ концы земли русской «воины Христовы», сильные волею, готовые трудиться и жертвовать своею жизнью, гордые происхожденіемъ своимъ отъ одной общей матери, — отъ воспитавшей ихъ обители Печерской.
Изъ Кіево-печерскаго монастыря вышли первые наши миссіонеры: Леонтій, распространившій христіанство въ Ростовѣ, и Кукша, замученный вятичами. Отсюда-же, какъ изъ главнаго разсадника древне-русскаго просвѣщенія, вышла и большая часть русскихъ владыкъ, правившихъ паствою русскою, въ разныхъ концахъ нашего отечества, до татарщины: въ концѣ XII вѣка уже насчитывали до 50-ти русскихъ епископовъ, происходившихъ изъ монастыря Кіево-печерскаго. И гдѣ-бы ни являлись иноки кіево-печерскіе, какой-бы дѣятельности они себя ни посвящали, какого-бы значенія ни достигали они въ современномъ обществѣ, — они постоянно поддерживали сношенія съ обителью Печерскою, и счастливѣйшимъ временемъ своей жизни считали тѣ годы, которые проведены были ими въ стѣнахъ ея, среди постоянныхъ трудовъ, вдали отъ житейскихъ волненій. Эта теплая, искренняя привязанность къ обители Кіево-печерской и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гордое сознаніе высокаго значенія ея — прекрасно высказываются въ одномъ изъ памятниковъ начала XIII вѣка. Этотъ памятникъ — посланіе Симона, одного изъ бывшихъ иноковъ Печерскаго монастыря, возведеннаго впослѣдствіи въ санъ епископа владимірскаго, къ другому иноку, Поликарпу, который, вслѣдствіе побужденій честолюбія, добивался епископства.
«Ты хочешь быть епископомъ?» пишетъ Симонъ Поликарпу; «хорошо; но… подумай, таковъ-ли ты, какимъ слѣдуетъ быть епископу!… Совершенство состоитъ не въ томъ, чтобы быть славиму ото всѣхъ, но въ томъ, чтобы исправить житіе свое и сохранить себя въ чистотѣ. Отъ того-то изъ Печерскаго монастыря такъ много епископовъ поставлено было во всю русскую землю: если считать всѣхъ, до меня, грѣшнаго, то будетъ около пятидесяти. Разсуди же теперь, какова слава этого монастыря — и будь доволенъ тихимъ и безмятежнымъ житіемъ, къ которому Господь привелъ тебя. Я-бы съ радостью оставилъ епископство и сталъ работать игумну; но самъ знаешь, что меня удерживаетъ: всѣ знаютъ, что у меня, грѣшнаго епископа Симона, соборная церковь — красота всему Владиміру, а другая, суздальская церковь, которую самъ построилъ: сколько у нихъ городовъ и селъ, и десятину собираютъ по всей той землѣ, и всѣмъ этимъ владѣетъ наша худость. Но передъ Богомъ скажу тебѣ: в_с_ю э_т_у с_л_а_в_у и в_л_а_с_т_ь с_ч_е_л_ъ-б_ы я з_а н_и_ч_т_о, е_с_л_и-б_ы м_н_ѣ х_о_т_я х_в_о_р_о_с_т_и_н_о_ю п_р_и_ш_л_о_с_ь т_о_р_ч_а_т_ь з_а в_о_р_о_т_а_м_и П_е_ч_е_р_с_к_а_г_о м_о_н_а_с_т_ы_р_я и_л_и х_о_т_я с_о_р_о_м_ъ в_а_л_я_т_ь_с_я в_ъ н_е_м_ъ и б_ы_т_ь п_о_п_и_р_а_е_м_у л_ю_д_ь_м_и».

Весьма естественно, что при такомъ значеніи Печерскаго монастыря въ средѣ русскаго общества XI и XII вѣковъ, при той привязанности къ обители, которая жила во всѣхъ инокахъ печерскихъ, — въ нихъ очень рано должно было пробудиться желаніе прославить ее, собравъ всѣ преданія о жившихъ въ ней и воспитанныхъ ею подвижникахъ, и передавая намять о нихъ отдаленному потомству. На основаніи этого побужденія, уже Несторъ сталъ собирать эти преданія. Собирая ихъ, могъ-ли Несторъ не собрать свѣдѣній о Ѳеодосіи, который скончался не за долго до прихода Нестора въ монастырь Кіево-печерскій? Еще такъ живы были воспоминанія о Ѳеодосіи, еще такъ полна была ими обитель; еще здравствовалъ и келарь Ѳеодосія, инокъ Ѳеодоръ, слышавшій отъ матери Ѳеодосія обо всѣхъ подробностяхъ его жизни до монашества. и передавшій эти подробности Нестору. Житіе Ѳеодосія было уже не первымъ опытомъ Нестора въ этомъ литературномъ родѣ: до него онъ успѣлъ написать, также сохранившееся намъ, «житіе Бориса и Глѣба». О «житіи Бориса и Глѣба» писалъ не одинъ Несторъ: и до него оно уже было сочинено какимъ-то монахомъ Іаковомъ. Замѣтно, что печальная судьба князей-братьевъ, глубоко проникнутыхъ чувствомъ христіанскаго смиренія и братолюбія, сильно поразила умы современниковъ, особенно въ тотъ періодъ, когда братолюбіе было далеко необыденнымъ явленіемъ въ княжеской и дружинной средѣ. Послѣ Нестора, надъ собираніемъ матеріаловъ для патерика болѣе всего трудился Симонъ, о которомъ мы упоминали выше; въ концѣ своего посланія къ Поликарпу, онъ сообщаетъ весьма любопытное «Сказаніе о построеніи Кіево-печерскаго монастыря» и подтверждаетъ всѣ нравственныя размышленія свои разсказами о жизни и подвигахъ печерскихъ угодниковъ. Поликарпъ, который по внѵшенію Симона, рѣшился отказаться отъ своихъ притязаній на епископство и остался въ Печерскомъ монастырѣ простымъ инокомъ, впослѣдствіи, по предложенію архимандрита Акиндина, въ посланіи къ нему, также изложилъ житія многихъ печерскихъ угодниковъ, отчасти на основаніи разсказовъ, слышанныхъ имъ отъ Симона, отчасти, вѣроятно, и на основаніи другихъ преданій. Сверхъ того, Поликарпъ говоритъ, что при изображеніи житій подражалъ д_р_е_в_н_и_м_ъ п_а_т_е_р_и_к_а_м_ъ, т. е., вѣроятно, византійскимъ образцамъ ихъ. Впослѣдствіи, это основаніе, данное патерику Несторомъ въ концѣ XI и началѣ XII вѣка, Симономъ и Поликарпомъ, въ началѣ XIII вѣка, расширенное и увеличенное, — много разъ передѣлывалось и дополнялось новыми статьями и житіями. Заносились сюда даже и такія статьи, которыя къ житіямъ отношенія не имѣли, напримѣръ: сказаніе о крещеніи славянъ, о томъ, какъ св. Писаніе было переведено на ихъ языкъ и т. п. Въ этомъ передѣланномъ и много разъ дополненномъ видѣ, патерикъ печерскій сдѣлался въ послѣдующіе вѣка любимымъ чтеніемъ благочестивыхъ людей русскихъ, которые много разъ почерпали въ немъ бодрость и силу для перенесенія тяжкихъ условій своей исторической жизни въ ея древнѣйшемъ и среднемъ періодѣ.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ТРЕТЬЕИ,
правитьОтрочество Ѳеодосія. — Намѣреніе посѣтить Іерусалимъ. — Труды его. — Отношеніе къ матери.
правитьВъ то время, (когда) скончался отецъ Ѳеодосію было тринадцать лѣтъ. Съ этого времени, онъ еще усерднѣе началъ трудиться, такъ-что даже съ рабами своими ходилъ на село и работалъ со всякимъ смиреніемъ. Мать-же оставляла его дома и не приказывала ему этого дѣлать; просила также его одѣваться въ хорошую одежду и въ ней ходить на игры со сверстниками своими, и говорила, что «такъ (бѣдно и неопрятно) ходя, онъ подвергаетъ безчестію и себя, и своихъ родственниковъ». Когда-же онъ не повиновался ей въ этомъ, то она часто въ гнѣвѣ и запальчивости била его, ибо была и здорова, и сильна, какъ мужчина, такъ-что, если-бы кто, не видя ее, услышалъ разговоръ ея, то счелъ-бы ее за мужчину. Благоговѣйный-же юноша размышлялъ, какъ и какимъ образомъ спастись ему? Потомъ, услышавъ о святыхъ мѣстахъ, гдѣ Господь нашъ жилъ во плоти, пожелалъ идти туда и поклониться имъ. Послѣ того, какъ онъ уже много разъ молился объ этомъ, пришли въ тотъ городъ странники; увидѣвъ ихъ, божественный юноша обрадовался, и съ любовью привѣтствовалъ ихъ; потомъ спросилъ ихъ: откуда они и куда идутъ? Когда-же они сказали, что отъ святыхъ мѣстъ, и, «если Богу угодно, уже собираемся возвратиться»; то святой просилъ ихъ, чтобы они взяли и его съ собою. и позволили ему быть ихъ спутникомъ. Они обѣщались взять его съ собою и довести до святыхъ мѣстъ. Услышавъ объ этомъ, Ѳеодосій очень обрадовался и возвратился домой. Когда-же странники, собираясь въ путь, извѣстили юношу о своемъ отшествіи, онъ, вставъ ночью тайно вышелъ изъ своего дома, не имѣя съ собою ничего, кромѣ одежды, въ которой ходилъ, да и та была худая. Такимъ образомъ отъ отправился вмѣстѣ со странниками на поклоненіе святымъ мѣстамъ. Но благій Богъ не допустилъ удалиться изъ страны этой тому, кого Онъ еще отъ рожденія назначилъ быть въ сей странѣ пастыремъ словесныхъ овецъ, чтобы, по отшествіи пастыря, не опустѣла пажить, благословенная Богомъ, не возрасли-бы на ней терніи и волчцы, и не разсѣялось бы стадо. Спустя три дня, мать Ѳеодосія узнала, что онъ ушелъ со странниками, и взявъ съ собою одного только сына, который былъ моложе Ѳеодосія, пустилась въ погоню за нимъ. Послѣ продолжительнаго преслѣдованія, они догнали его, и мать, схвативъ его въ ярости и сильномъ гнѣвѣ за волосы, повалила его на землю и ногами стала топтать его. Побранивъ странниковъ, возвратилась она въ домъ свой, ведя связаннаго святого, словно какого-нибудь злодѣя. Она была въ такомъ гнѣвѣ, что, пришедши домой, била сына, пока тотъ не изнемогъ; послѣ этого, ввела его въ отдѣльную горницу, и въ ней, привязавъ его и затворивъ, оставила. Блаженный юноша все это терпѣлъ съ радостью и за все это благодарилъ Бога въ молитвѣ къ Нему. Чрезъ два дня, матъ, пришедши къ нему, отвязала его и позволила вкусить пищи; но, все еще будучи сильно разгнѣвана, заковала ноги его въ желѣза и въ нихъ повелѣла ему ходить, наблюдая, чтобы онъ опять отъ нея не ушелъ; такъ онъ ходилъ довольно долгое время. Потомъ, смиловавшись надъ нимъ, она начала съ просьбою уговаривать его, чтобы онъ отъ нея не уходилъ, такъ-какъ она любила его болѣе всѣхъ и потому не могла безъ него быть. Когда-же онъ далъ ей обѣщаніе не уходить отъ нея, то она сняла желѣза съ ногъ его, давъ ему полную волю дѣлать все, что ему вздумается. Блаженный-же Ѳеодосій снова обратился къ первому подвигу и ежедневно ходилъ въ церковь Божію. Замѣтивъ, что часто не бываетъ литургіи потому, что некому печь для совершенія ея просфоры, онъ сильно сожалѣлъ объ этомъ и рѣшился, по своему смиренію, самъ посвятить себя на это дѣло; такъ онъ и исполнилъ. Онъ началъ печь просфоры и продавать ихъ, и какая бывала отъ этого прибыль, ту отдавалъ нищимъ; а на вырученныя деньги опять покупалъ жито, мололъ его своими руками и снова приготовлялъ просфоры. Это происходило по волѣ Божіей, да приносятся въ церковь Божію чистыя просфоры отъ непорочнаго и чистаго отрока. Такъ поступалъ онъ два года или болѣе. Всѣ сверстники его издѣвались надъ нимъ и насмѣхались за такое занятіе, по внушенію врага (т.-е. дьявола). Блаженный же все это переносилъ съ радостью и молчаніемъ.
Властелинъ того города, видѣвъ такое смиреніе и покорность въ отрокѣ, сильно полюбилъ его и повелѣлъ ему быть при своей церкви, далъ ему чистую одежду, чтобы онъ ходилъ въ ней. Блаженный ходилъ въ ней нѣсколько дней, какъ-бы нося нѣкоторую тяжесть; потомъ снялъ ее и отдалъ нищимъ, самъ одѣлся въ рубище и въ немъ ходилъ. Властелинъ же, увидя, что онъ такъ ходитъ, опять далъ ему одежду лучше прежней, прося его ходить въ ней. Ѳеодосій же, снявъ и эту, отдалъ; и такимъ образомъ онъ поступалъ нѣсколько разъ. Увидѣвъ это, властелинъ еще болѣе сталъ любить отрока, удивляясь его смиренію.
Послѣ сего блаженный Ѳеодосій, пришедъ къ одному кузнецу, заказалъ ему сдѣлать желѣзныя цѣпи; потомъ, взявъ ихъ, препоясался ими и такимъ образомъ ходилъ. Желѣзо, будучи узко, въѣдалось въ тѣло его; но онъ такъ былъ покоенъ, какъ-бы никакой боли вовсе и не чувствовалъ. По прошествіи многихъ дней, при наступленіи дня праздничнаго, мать его стала приказывать ему одѣться въ чистую одежду для услуженія; ибо въ этотъ день всѣ знатные города обѣдали у властелина, а блаженному Ѳеодосію повелѣно было предстоять и служить: потому-то мать и побуждала его одѣться въ чистую одежду; отчасти же и потому, что уже слышала, что онъ сдѣлалъ съ собою. Когда же онъ одѣлся въ чистую одежду и въ простотѣ сердечной не остерегался матери, она увидѣла на рубашкѣ его кровь отъ въѣвшагося желѣза, и распалилась на него гнѣвомъ: въ запальчивости разорвала она на немъ рубашку, била его и сорвала съ него желѣзныя цѣпи. Блаженный отрокъ, какъ будто ничего худого съ нимъ не случилось, одѣлся, пошелъ скромно и служилъ гостямъ спокойно.
Удаленіе въ Кіевъ. — Поселеніе въ пещерѣ. — Постриженіе матери.
правитьСпустя нѣсколько времени, услышалъ онъ сказанное во св. Евангеліи: «аще кто не оставитъ отца и матерь, вслѣдъ Мене не идетъ, нѣсть Мене достоинъ». Слыша это, Ѳеодосій воспламенился божественною любовью и, исполнясь ревностью по Богѣ, разсуждалъ, какъ и гдѣ постричься ему и скрыться отъ матери. Мать Ѳеодосія (тѣмъ временемъ) отлучилась на село на нѣсколько дней. Блаженный обрадовался тому, помолился Богу, тайно вышелъ изъ дому, не имѣя при себѣ ничего, кромѣ одежды и немного хлѣба для немощи тѣлесной, и такимъ образомъ устремился къ городу Кіеву, такъ какъ слышалъ о находящихся тамъ монастыряхъ. Не зная же дороги, молился Богу, какъ бы найти попутчиковъ въ желаемомъ пути. И вотъ, по устроенію божественному, ѣхали тѣмъ путемъ купцы съ тяжелыми возами. Блаженный, узнавъ, что они ѣдутъ въ тотъ же городъ, прославилъ Бога и шелъ вдалекѣ, не показываясь имъ. Такимъ образомъ, шедши въ продолженіи трехъ недѣль, достигъ онъ выше сказаннаго города. По приходѣ своемъ, обошелъ онъ всѣ монастыри, желая быть монахомъ и просилъ иноковъ, чтобы приняли его. Они же, видѣвъ простаго отрока, одѣтаго въ худыя одежды, не хотѣли принять его. Это было такъ по изволенію Божію, чтобы приведенъ онъ былъ на то мѣсто, которое еще отъ юности было ему назначено Богомъ.
Услышавъ о блаженномъ Антоніи, живущемъ въ пещерѣ, Ѳеодосій окрылатѣлъ духомъ и поспѣшно пришелъ къ преподобному Антонію и, увидѣвъ его, палъ и поклонился ему, прося его со слезами, чтобы позволилъ ему остаться здѣсь (въ пещерѣ у Антонія). Антоній же повелѣлъ великому Никону, пресвитеру и опытному черноризцу, постричь его. Никонъ, взявъ блаженнаго Ѳеодосія, постригъ его и облекъ въ монашескую одежду. Мать Ѳеодосія, долго искавъ сына въ своемъ городѣ и окрестныхъ городахъ и не нашедъ его, плакала по немъ, ударяя себя въ грудь, какъ по мертвомъ. И заповѣдано было по всей странѣ той, что если кто гдѣ увидитъ такого-то отрока, пришолъ бы и сказалъ матери его, а за извѣстіе получитъ награду. И вотъ, прибывшіе изъ Кіева сказали ей: «четыре года тому назадъ видѣли мы сына твоего въ нашемъ городѣ; онъ ходилъ и изъявлялъ желаніе постричься въ какомъ-либо монастырѣ». Услышавъ это, мать его не полѣнилась идти туда; нисколько не медля, не боясь и долгаго пути, отправилась она въ помянутый городъ, отыскивать сына. Прійдя въ городъ (Кіевъ), обходила всѣ монастыри, отыскивая Ѳеодосія. Наконецъ сказали ей, что онъ находится въ пещерѣ у преподобнаго Антонія. Она отправилась и туда, чтобы найти его. И вотъ она хитростью вызываетъ къ себѣ старца: «скажите», — говорила она, — «преподобному, чтобы онъ вышелъ но мнѣ: я пришла издалека, чтобы бесѣдовать съ нимъ и поклониться его святости; пусть благословитъ меня». Возвѣстили старцу о ней и онъ къ ней вышелъ. Она, увидавъ его, поклонилась ему. Потомъ, когда они сѣли, то она начала бесѣдовать съ нимъ о многомъ, и наконецъ открыла, для чего она пришла. «Прошу тебя, отче», говорила она, «скажи, гдѣ находится сынъ мой? Я сильно сокрушаюсь о немъ, не зная, живъ ли он.ъ?» Старецъ же, будучи простъ, и не зная хитрости ея, сказалъ ей: «сынъ твой здѣсь; не сокрушайся о немъ; онъ живъ». Она сказала ему: отчего же я не вижу его? Я прошла долгій путь и пришла въ этотъ городъ съ тѣмъ только, чтобы видѣть сына своего и потомъ возвратиться въ свой городъ". Старецъ сказалъ ей: «если хочешь видѣть его, то иди сегодня домой, а я пойду и уговорю его; иначе онъ ни съ кѣмъ не желаетъ видѣться». Услышавъ это, она ушла съ надеждою увидѣть сына на слѣдующій день. Преподобный Антоній, пришедъ въ пещеру, извѣстилъ обо всемъ этомъ блаженнаго Ѳеодосія и тотъ сильно скорбѣлъ, что не можетъ утаиться отъ матери. На другой денъ пришла мать Ѳеодосія. Старецъ много уговаривалъ блаженнаго, чтобы онъ вышелъ повидаться съ матерью; но тотъ не хотѣлъ выйдти. Тогда старецъ сказалъ матери: «много просилъ я его, чтобы вышелъ къ тебѣ, но онъ не хочетъ». Тогда она уже не со смиреніемъ стала говорить старцу, а кричать на него съ гнѣвомъ: ,,ты меня обидѣлъ, старецъ! взялъ сына моего, скрылъ его въ пещерѣ и не хочешь мнѣ показать его; выведи мнѣ, старецъ. сына моего, чтобы я его увидѣла. Я жива не буду, коли не увижу сына моего. Покажи мнѣ сына моего, иначе умру отъ скорби: — сама себя погублю передъ дверьми этой пещеры, если не покажешь мнѣ его!« Тогда Антоній въ сильной скорби вошелъ въ пещеру и просилъ блаженнаго выйти къ матери. Ѳеодосій, не желая ослушаться старца, вышелъ къ ней. Она же, увидѣвъ сына своего въ такомъ изнеможеніи, ибо лицо его измѣнилось отъ трудовъ и воздержанія, обняла его и горько заплакала; потомъ. нѣсколько утѣшившись, сѣла и начала уговаривать Христова слугу такъ: „иди, сынъ мой, въ свой домъ, и дѣлай въ домѣ своемъ, но волѣ своей все, что необходимо для тебя и для спасенія души; только не разлучайся со мною. Когда совершишь погребеніе надъ тѣломъ моимъ, тогда возвратишься въ эту пещеру, по своему желанію: вѣдь я безъ тебя жить не могу“. Блаженный же сказалъ ей: ..матушка, если хочешь видѣть меня каждый день, то иди и постригись въ одномъ изъ кіевскихъ женскихъ монастырей; тогда, приходя сюда, ты будешь видѣть меня; къ тому же пріобрѣтешь и спасеніе души своей. Если же ты не сдѣлаешь этого, то — истину говорю тебѣ — не увидишь лица моего». Она не хотѣла и слушать его… а блаженный Ѳеодосій прилежно молился Богу о спасеніи матери своей… Въ одинъ день пришла къ нему мать его и сказала: «дитя мое, я готова исполнить то, что ты приказываешь: не возвращусь я болѣе въ свой городъ; но, какъ угодно Богу, пойду въ женскій монастырь, постригусь въ немъ и тамъ проведу остальные дни мои; изъ твоей бесѣды поняла я, какъ ничтоженъ этотъ маловременный свѣтъ». Блаженный очень этому обрадовался и сказалъ о томъ великому Антонію. Антоній вышелъ къ ней, много наставлялъ ее полезному для души и возвѣстилъ о ней княгинѣ; а княгиня приняла мать Ѳеодосіеву въ Кіевскій женскій монастырь св. Николая.
Примѣры смиренія Ѳеодосія во время его игуменства.
правитьВъ одинъ день, передъ наступленіемъ праздника Св. Богородицы, когда не было въ монастырѣ воды, келарь Ѳеодоръ пошелъ и сказалъ блаженному Ѳеодосію (который; былъ тогда уже игумномъ), что некому принесть воды. Блаженный тотчасъ всталъ и началъ носить воду изъ колодца. Одинъ изъ братіи увидѣлъ, что онъ носитъ воду, тотчасъ пошелъ и извѣстилъ нѣкоторыхъ изъ братіи. Они поспѣшно прибѣжали и съ избыткомъ наносили воды.
Въ другой разъ, когда не было заготовлено дровъ, необходимыхъ для варенія пищи, то келарь Ѳеодоръ пошелъ къ блаженному Ѳеодосію и сказалъ: «прикажи кому-нибудь, кто свободенъ изъ братіи, наносить дровъ». Блаженный же сказалъ: «а вотъ я свободенъ, пойду и наношу». Затѣмъ приказалъ братіи идти въ трапезу, потому что было уже время обѣда, а самъ началъ топоромъ рубить дрова. По окончаніи трапезы братія вышли и увидѣли, что преподобный игуменъ ихъ рубитъ дрова и такъ трудится; тогда каждый взялъ топоръ, и столько дровъ заготовили, что ихъ стало на долгое время. Много разъ, когда великій Никонъ (бывшій игумномъ Печерскаго монастыря до Ѳеодосія) сидѣлъ и переплеталъ книги, блаженнып Ѳеодосій садился около него и прялъ нитки, необходимыя для этого издѣлія. Таковы были смиреніе, простота (и трудолюбіе его)! Никому не случалось видѣть, чтобы онъ лежалъ на ребрахъ; одежда его состояла изъ жесткой волосяной рубашки, надѣтой прямо на тѣло; сверху ея была другая свитка и то весьма худая: и ту носилъ онъ, чтобы не видна была на немъ власяница. По причинѣ этой худой одежды многіе несмысленные насмѣялись надъ нимъ, а блаженный съ радостью принималъ такую укоризну.
Однажды Ѳеодосій, по нѣкоторому дѣлу, пошелъ къ христолюбивому князю Изяславу, который далеко жилъ отъ города; тамъ пробылъ онъ до вечера. Христолюбецъ Изяславъ, желая дать преподобному время уснуть, повелѣлъ отвезти его до монастыря на возу. Во время пути, тотъ, что везъ Ѳеодосія, видя на немъ такую одежду, почелъ его за одного изъ бѣдняковъ и сказалъ ему: «черноризецъ! ты всякій денъ свободенъ, а я живу въ трудахъ, и вотъ не могу ѣхать на конѣ; пусти меня лечь въ возкѣ, а ты можешь сѣсть на коня». Блаженный смиренно всталъ, сѣлъ на коня, а тотъ легъ на возу. Такъ преподобный и продолжалъ путь, радуясь и прославляя Бога. Когда дремота начинала одолѣвать его, онъ слѣзалъ съ коня и шелъ пѣшкомъ; когда же утомлялся, то опять садился на коня. Когда взошла заря и вельможи, ѣхавшіе къ князю, стали встрѣчаться на пути, то, издали узнавая блаженнаго, сходили съ коня и кланялись ему. Тогда преподобный сказалъ отроку: «сынъ мой, ужъ разсвѣло, сядь на коня своего». Тотъ, видя, что всѣ Ѳеодосію кланяются, смутился и ужаснулся, всталъ съ воза, сѣлъ на коня, а преподобный Ѳеодосій сѣлъ на телѣгу. Всѣ бояре, встрѣчаясь, кланялись ему, а возницу его еще сильнѣе тревожилъ страхъ. Когда же они пріѣхали въ монастырь и вся братія, вышедъ, поклонилась Ѳеодосію до земли, то отрокъ ужаснулся еще болѣе. «Кто это такой», думалъ онъ, «что всѣ ему кланяются?» Преподобный же взялъ его за руку, повелъ въ трапезу и велѣлъ дать ему ѣсть и пить, сколько хочетъ, послѣ того наградилъ его деньгами и отпустилъ.
Отношенія Ѳеодосія къ великому князю Святославу Ярославичу.
правитьПроизошло (около того времени) смятеніе между тремя князьями-братьями; (двое) возстали на одного старшаго, истинно христолюбиваго Изяслава, который и былъ ими изгнанъ изъ столичнаго города 1). Вступивши въ городъ, князья послали за блаженнымъ отцемъ нашимъ, Ѳеодосіемъ, прося его прійти къ нимъ на обѣдъ. Преподобный-же, исполненный Духа Святаго, узнавъ о несправедливомъ изгнаніи христолюбца, отвѣтствовалъ имъ словами Святаго Писанія: «не пойду на трапезу Іезавелину и не вкушу той пищи, которая исполнена крови и убійства». Сказавъ это и много другого укоризненнаго, онъ отпустилъ посланнаго и приказалъ ему передать пославшимъ его князьямъ все сказанное имъ…
1) Это событіе произошло 22 марта, 1073 года.
(Вскорѣ послѣ того) одинъ изъ братьевъ (Святославъ Черниговскій) взошелъ на престолъ брата и отца своего, а другой (Всеволодъ) возвратился въ свою область (Переяславль). Тогда преподобный отецъ нашъ, Ѳеодосій, началъ обличать Святослава въ несправедливости его поступка, въ незаконномъ восшествіи на престолъ и въ изгнаніи старшаго брата. Иногда обличалъ онъ его, посылая на письмѣ къ нему посланія, а иногда въ присутствіи вельможъ, приходившихъ къ нему, приказывая передавать слова свои Святославу. Впослѣдствіи написалъ онъ къ нему весьма обширное посланіе, гдѣ такъ обличалъ его: ,,Гласъ крови брата твоего вопіетъ на тебя къ Богу, подобно Авелевой на Каина", (затѣмъ) приводилъ въ примѣръ многихъ другихъ древнихъ гонителей, братоубійцъ и ненавистниковъ и притчами объяснялъ его поступокъ. Святославъ, прочитавъ его посланіе, сильно разгнѣвался на него, какъ левъ возрыкалъ на преподобнаго и бросилъ его посланіе на землю; и отъ этого пронесся слухъ, будто блаженный будетъ осужденъ на заточеніе. Тогда вся братія, пораженная скорбью, молила блаженнаго оставить обличеніе князя. Многіе бояре приходили къ нему съ извѣстіемъ о княжескомъ гнѣвѣ на него и просили его не противиться князю; они говорили: «онъ хочетъ послать тебя въ заточеніе». Ѳеодосій-же, слыша о заточеніи, возрадовался духомъ и сказалъ имъ: «братія, я тому весьма радъ, потому-что для меня нѣтъ ничего лучше въ жизни. Чего страшиться мнѣ? Потери-ли богатства? Или можетъ печалить меня разлука съ дѣтьми и селами? Ничего подобнаго мы не принесли въ сей міръ: нагими родились, нагими слѣдуетъ намъ и выйдти изъ сего міра; а потому я готовъ и на заточеніе, и на смерть»! Съ того времени еще сильнѣе началъ онъ укорять Святослава за ненависть къ брату. Князь-же, хотя и сильно разгнѣвался на блаженнаго, однако не дерзнулъ нанесть ему ни малѣйшаго оскорбленія, такъ-какъ онъ видѣлъ въ Ѳеодосіѣ мужа праведнаго.
(Видя, что угрозы и обличеніе не дѣйствуютъ на князя), Ѳеодосій рѣшился помириться и кроткими увѣщаніями склонить его въ пользу брата. На этомъ основаніи онъ примирился съ Святославомъ, который уже давно искалъ съ нимъ случая побесѣдовать и очень обрадовался, когда св. Ѳеодосій позволилъ ему прійдти на свиданіе съ нимъ въ монастырь. Послѣ того они стали часто видѣться, хотя Ѳеодосій продолжалъ по прежнему, во время службы, на эктеніи, воспоминать Изяслава, какъ стольнаго князя и старшаго изъ всѣхъ князей, и хотя при каждомъ удобномъ случаѣ онъ напоминалъ Святославу о его несправедливости къ брату. (Въ житіи разсказываются слѣдующіе замѣчательные эпизоды изъ этого періода отношеній Ѳеодосія къ Святославу):
Много разъ, когда возвѣщали князю о приходѣ блаженнаго, онъ съ радостью встрѣчалъ его передъ дверьми дома, и такимъ образомъ входилъ съ нимъ въ домъ. Однажды, находясь въ веселомъ расположеніи духа, князь говоритъ преподобному: «Отче! истину тебѣ говорю, что еслибы возвѣстили мнѣ, что всталъ изъ мертвыхъ отецъ мой, то я-бы не радовался этому такъ, какъ твоему приходу и не боялся-бы его, не смущался-бы такъ, какъ передъ твоею преподобною душою». Блаженный-же сказалъ въ отвѣтъ ему: «если такъ боишься меня, то исполни мое желаніе — возврати брата своего на престолъ, врученный ему благовѣрнымъ отцемъ его». На это князь промолчалъ, ибо не могъ ничего отвѣтить…
(Въ другой разъ, случилось, что) Ѳеодосій пришелъ къ князю и, вошедъ въ комнату, гдѣ князь находился, сѣлъ; и вотъ увидѣлъ онъ многихъ играющихъ и веселящихся, какъ обыкновенно бываетъ передъ княземъ: одни играли на гусляхъ, другіе на органахъ, третьи пѣли пѣсни. Блаженный-же сидѣлъ близь князя и поникъ головою долу. И по-томъ, немного приподнявъ голову, сказалъ князю: «такъ-ли будетъ на томъ свѣтѣ?» Князь-же, умилившись словами блаженнаго и (даже) нѣсколько прослезившись, приказалъ играющимъ прекратить игру. Съ того времени, когда начинали они играть предъ княземъ, а князь слышалъ о приходѣ блаженнаго, то приказывалъ имъ прекращать игру.
Смерть Олега.
правитьВъ лѣто 6420 (912). Послалъ Олегъ мужей своихъ водворить миръ и установить условія мира между Греками и Русскими 1). — И зажилъ Олегъ въ мирѣ со всѣми странами, княжа въ Кіевѣ. И наступила осень, и воспомнилъ Олегъ коня своего, котораго поставилъ кормить на покоѣ и на котораго не садился. Ибо прежде (за долго до этого времени) спрашивалъ онъ волхвовъ-кудесниковъ: «отъ чего предстоитъ мнѣ умереть?» И сказалъ ему одинъ кудесникъ: «князь! ты умрешь отъ того самаго коня, котораго ты любишь и на которомъ ѣздишь». Олегъ-же подумалъ и сказалъ: «никогда не сяду на коня того, и даже не увижу его болѣе»; — и велѣлъ кормить его и не водить къ себѣ, и нѣсколько лѣтъ такъ прошло; между тѣмъ онъ и на грековъ ходилъ, и въ Кіевъ вернулся, и оставался тамъ четыре года; на пятый вспомнилъ онъ о конѣ своемъ, отъ котораго, по словамъ волхвовъ, надлежало умереть Олегу, и призвалъ старшаго надъ конюхами, говоря: «гдѣ конь мой, котораго я поставилъ кормить и беречь?» Тотъ сказалъ: «онъ издохъ». Олегъ посмѣялся и попрекнулъ кудесника, говоря: «не правду говорятъ волхвы, — все это ложь; вотъ, и конь издохъ, а я все живъ». И приказалъ осѣдлать себѣ коня: «дай посмотрю на его кости». И пріѣхалъ на мѣсто, гдѣ лежали его обнаженныя кости и черепъ; и слѣзъ съ коня, посмѣялся и сказалъ: «ужъ не отъ этого-ли черепа мнѣ смерть приключится?» — и наступилъ на черепъ ногою и выползла оттуда змѣя, и ужалила его въ ногу, и онъ, разболѣвшись отъ этого, умеръ. И много оплакивали его всѣ люди, и понесли его (тѣло) и погребли на горѣ, которая называется Щековицей: могила его видна и по нынѣ и слыветъ Олеговой могилой.
1) За этимъ слѣдуетъ приведенный дословно договоръ Русскихъ съ Греками.
Мщеніе Ольги.
правитьВъ лѣто 6453 (945). Древляне убили Игоря и дружину его, ибо ихъ было немного. И погребенъ былъ Игорь; и могила его у города Искоростена, въ древлянской землѣ, есть и до сего дня. А Ольга была (тогда) въ Кіевѣ съ сыномъ своимъ, дитятею Святославомъ, и съ кормильцемъ его, Асмудомъ, воевода-же былъ Свѣнельдъ: онъ-же и отецъ Мистишинъ. И сказали Древляне: «вотъ, мы князя русскаго убили; возьмемъ жену его Ольгу за нашего князя Мала; возьмемъ и Святослава, и поступимъ съ нимъ, какъ намъ вздумается». И послали Древляне лучшихъ мужей, числомъ 20, въ лодьѣ къ Ольгѣ, и пристали они въ лодьѣ подъ Боричевымъ. — И сказали Ольгѣ, что пришли Древляне, и позвала ихъ Ольга къ себѣ — «добрые, молъ, гости пришли»; и сказали Древляне: «пришли, княгиня». И сказала имъ Ольга: «говорите-же, зачѣмъ вы пришли сюда?» Сказали Древляне: «послала насъ древлянская земля, говоря такъ: мужа твоего мы убили, ибо мужъ твой, словно волкъ, все расхищалъ и грабилъ, а наши князья добрые — наша древлянская земля благоденствуетъ подъ властью ихъ; такъ выходи-же за князя нашего, Мала»; князя-то древлянскаго Маломъ звали. Сказала имъ Ольга: «люба мнѣ ваша рѣчь: мнѣ вѣдь ужъ мужа своего не воскресить; но я хочу завтра оказать вамъ почесть передъ людьми своими; а ныньче ступайте въ лодью свою и лягте въ лодьѣ, величаясь; я-же завтра пошлю за вами, а вы скажите: „не поѣдемъ на коняхъ, и пѣшкомъ не пойдемъ, а понесите-ка вы насъ въ лодьѣ; и взнесутъ васъ (на гору) въ лодьѣ“. Такъ и отпустила ихъ въ лодью. Ольга-же велѣла выкопать большую и глубокую яму на дворѣ терема, за городомъ. И на другое утро, Ольга, сидя въ теремѣ, послала за гостями, и пришли къ нимъ (люди Ольгины), говоря: „зоветъ васъ Ольга на великую честь“. Они же сказали: „не поѣдемъ ни на коняхъ, ни на волахъ, ни пѣшкомъ не пойдемъ, а понесите-ка вы насъ въ лодьѣ“. Кіевляне-же сказали: „поневолѣ понесемъ; нашъ князь убитъ, а княгиня наша хочетъ за вашего князя выйти“ — и понесли ихъ въ лодьѣ. А тѣ сидѣли и гордились; и принесли ихъ на дворъ къ Ольгѣ, и, принеся, бросили въ яму вмѣстѣ съ лодьей. Наклонилась Ольга (надъ ямой) и сказала имъ: „хороша-ли вамъ честь?“ Они-же отвѣчали: „хуже Игоревой смерти“, — и приказала засыпать ихъ живыми, и засыпали ихъ.
Послала Ольга къ Древлянамъ и сказала имъ: „если вы меня просите право, то пришлите знатныхъ мужей (меня сватать), дабы я съ великою честью могла прійти за вашего князя (за мужъ); а то и не пустятъ меня Кіевляне“. Услышавъ это, Древляне собрали лучшихъ мужей, которые правили древлянскою землею, и послали за Ольгою. Когда-же Древляне пришли, Ольга повелѣла истопить баню, и сказала такъ: „какъ вымоетесь, такъ придите ко мнѣ“. Истопили имъ избу, и влѣзли въ нее Древляне, начали мыться; и заперли ту избу, и (Ольга) повелѣла зажечь ее отъ дверей, — такъ всѣ въ ней и сгорѣли,
И послала (Ольга) къ Древлянамъ, говоря такъ: „вотъ, я ужъ иду къ вамъ; приготовьте же много меду въ томъ городѣ, въ которомъ вы убили мужа моего, дабы я могла поплакать надъ гробомъ его, и сотворить мужу своему тризну“. Тѣ-же, услышавъ это, свезли очень много медовъ, и взварили ихъ. Ольга-же, взявъ съ собою небольшую дружину, на-легкѣ пустилась въ путь, и пришла ко гробу мужа своего, и плакала по немъ: и приказала людямъ своимъ насыпать высокую могилу; и когда ее насыпали, то приказала на ней тризну справлять (по мужѣ своемъ). Затѣмъ Древляне сѣли пить, и Ольга повелѣла своимъ отрокамъ служить передъ ними. Древляне сказали Ольгѣ: „гдѣ-же та дружина наша, которую мы послали за тобою?“ Она же отвѣчала: „идутъ вслѣдъ за мною съ дружиною мужа моего“. Когда-же Древляне упились, она повелѣла отрокамъ; своимъ пить въ честь ихъ, а сама отошла въ сторону, и приказала рубить Древлянъ. И порубили ихъ 500, а Ольга возвратилась въ Кіевъ, и приготовила войско противъ остальныхъ Древлянъ.
Печенѣжскій набѣгъ.
правитьВъ лѣто 6476 (968 г.) пришли Печенѣги впервые на русскую землю, а Святославъ былъ въ Переяславцѣ: и затворилась Ольга въ городѣ со своими внуками, Ярославомъ и Олегомъ, и Владиміромъ — въ городѣ Кіевѣ. И обступили враги городъ въ большихъ силахъ и въ безчисленномъ множествѣ (стали) около города: нельзя было ни изъ города выйти, ни вѣсть послать; стали люди изнемогать отъ голода и отъ (недостатка) воды. Собрались жители той стороны Днѣпра въ лодьяхъ и стояли по ту сторону, и нельзя было ни одному изъ нихъ войти въ Кіевъ, ни изъ города выйти къ нимъ. Вступили люди въ городѣ и сказали: „нѣтъ-ли кого-нибудь, кто-бы могъ пробраться на ту сторону и сказать имъ: если кто поутру не приступитъ (на помощь намъ къ Кіеву), то намъ предстоитъ передаться Печенѣгамъ“. И сказалъ одинъ отрокъ: „я перейду“; и сказали ему: „иди“. Онъ и вышелъ изъ города съ уздою въ рукѣ, и сталъ между Печенѣгами бѣгать, говоря: „не видѣлъ-ли кто (моего) коня?“ — онъ умѣлъ говорить по-печенѣжски — и тѣ сочли его за своего. Когда-же онъ приблизился къ рѣкѣ, то сбросилъ съ себя одежду, бросился въ Днѣпръ и побрелъ; увидѣвъ это, Печенѣги бросились вслѣдъ за нимъ и стали въ него стрѣлять, и ничего не могли ему сдѣлать. А тѣ, что были на другой сторонѣ, увидѣвъ все это, поплыли на встрѣчу отроку въ лодкѣ, и взяли его въ лодку и привезли къ дружинѣ; и онъ сказалъ имъ: „если завтра не подступите къ городу, то люди хотятъ передаться Печенѣгамъ“. Воевода-же ихъ, именемъ Прѣтичъ, сказалъ: „подступимъ завтра въ лодкахъ и, пробившись въ городъ, увеземъ на этотъ берегъ княгиню и обоихъ княжичей; если же этого не сдѣлаемъ, Святославъ насъ погубитъ“. На слѣдующій день, сѣли они въ лодку передъ разсвѣтомъ и громко затрубили, а люди въ городѣ откликнулись имъ; Печенѣги-же подумали, что князь пришелъ, побѣжали въ разныя стороны отъ города; и вышла (изъ города) Ольга съ внуками и съ людьми своими къ лодкѣ. Видя же это, князь печенѣжскій возвратился одинъ къ воеводѣ Прѣтичу и сказалъ: „кто это пришелъ?“ И тотъ отвѣчалъ ему: „лодья съ тон стороны“. И сказалъ князь печенѣжскій: „а ты-то ужъ не самъ-ли князь?“ Тотъ-же отвѣчалъ: „я принадлежу къ дружинѣ его, и пришелъ съ передовымъ отрядомъ, а за мною идетъ полкъ съ самимъ, и въ немъ безчисленное множество людей“. Это все говорилъ онъ только ради угрозы. И сказалъ князь печенѣжскій Прѣтичу: „будь мнѣ другъ“, а тотъ ему на это: „пусть будетъ такъ“. И подали они другъ другу руки печенѣжскій князь отдалъ (въ даръ) Прѣтичу своего коня, саблю и стрѣлы, а тотъ ему — броню, щитъ и мечъ. Отступили Печенѣги отъ города, и нельзя было коня напоить: — на Лыбеди (рѣкѣ) стояли Печенѣги. И послали Кіевляне къ Святославу, говоря: „ты, князь, чужой земли ищешь и чужую землю оберегаешь, а своей не бережешь — едва-едва не взяли насъ Печенѣги, и матерь твою, и дѣтей твоихъ; если не пойдешь, и не оборонишь насъ, если дашь насъ взять снова, то ужъ видно не жаль тебѣ ни отчизны своей, ни старой матери, ни дѣтей твоихъ“. Услышавъ это, Святославъ тотчасъ сѣлъ на коня съ дружиною своею, и пришелъ къ Кіеву, цѣловалъ матерь свою и дѣтей своихъ, сокрушался о томъ, что произошло отъ Печенѣговъ, и собралъ онъ войско, прогналъ Печенѣговъ въ степь и водворился миръ.
Единоборство Мстислава Владиміровича съ Редедею.
правитьВъ лѣто 6530 (1022). Ярославъ пришелъ къ Берестью. Въ то же время Мстиславъ былъ въ Тмуторокани и пошелъ на Касоговъ. Касожскій князь, Редедя, услышавъ объ этомъ, выступилъ противъ него, и когда оба полка стали другъ противъ друга, Редедя и сказалъ Мстиславу: „изъ-за чего намъ губить нашу дружину? Лучше намъ самимъ сойтись и побороться; и если ты одолѣешь, то возьмешь и мое имѣнье, и жену мою, и дѣтей моихъ, и землю мою; если-же я одолѣю, то возьму все твое“. И сказалъ Мстиславъ: „пусть будетъ такъ“. И сказалъ Редедя Мстиславу: „не оружіемъ биться будемъ, а борьбою (бороться)“. И схватились они крѣпко бороться, и послѣ того, какъ они уже долго боролись, Мстиславъ сталъ изнемогать, ибо Редедя былъ высокъ ростомъ и силенъ; и сказалъ Мстиславъ: „о, пречистая Богородица! помоги мнѣ; ужъ если я одолѣю этого, то церковь во имя Твое построю“. И, сказавъ это, ударилъ Редедю о землю, выхватилъ ножъ и зарѣзалъ его; потомъ пошелъ въ землю его, взялъ все имѣніе его, жену и дѣтей его, и дань наложилъ на Касоговъ. И прійдя въ Тмуторокань, заложилъ церковь во имя св. Богородицы, и построилъ ее, и стоитъ та церковь донынѣ въ Тмуторокани.
Битва при Лиственѣ.
правитьВъ лѣто 6531 (1023). Мстиславъ пошелъ на Ярослава, съ Казарами и съ Касогами. Въ лѣто 6532 (1024). Въ то время, какъ Ярославъ былъ въ Новѣгородѣ, пришедъ Мстиславъ къ Кіеву изъ Тмуторокани и не приняли его Кіевляне; онъ же пошелъ и сѣлъ на столѣ въ Черниговѣ, такъ-какъ Ярославъ все еще находился въ Новѣгородѣ. Въ то же лѣто поднялись волхвы въ Суздали, стали избивать старыхъ людей подьяволову наущенію и бѣсованью, говоря, будто они скрываютъ въ себѣ урожай. Былъ по всей той сторонѣ великій мятежъ и голодъ; пошли по Волгѣ всѣ люди въ болгарскую землю, и привезли (оттуда) съ собою жито: только тѣмъ и ожили. Услышавъ-же о волхвахъ, Ярославъ пришелъ къ Суздалю; переловивъ волхвовъ, онъ, разогналъ ихъ, а другихъ показнилъ, сказавъ такъ: „Богъ по грѣхамъ наказываетъ каждую землю голодомъ или морозомъ, или вёдромъ, или иною карою, а человѣкъ ничего не можетъ знать“. И возвратился (изъ Суздаля) Ярославъ, пришелъ къ Новгороду и послалъ за море за Варягами; и пришелъ Якунъ съ Варягами, и былъ тотъ Якунъ прекрасенъ, и плащъ на немъ былъ вытканъ.изъ золота. И пришедъ онъ къ Ярославу; пошелъ Ярославъ съ Якуномъ на Мстислава, а Мстиславъ, услышавъ объ этомъ, выступилъ противъ нихъ къ Листвену. Мстиславъ съ вечера изготовилъ къ бою свою дружину, и поставилъ Сѣверянъ (въ серединѣ) какъ разъ противъ Варяговъ (Ярославовыхъ), а самъ сталъ со своею дружиною по крыламъ (войска). И когда наступила ночь, стало темно, (пошелъ) дождь, (загремѣлъ) громъ, (заблистала) молнія. И пошли другъ противъ другу Ярославъ и Мстиславъ, и сошлись (находившіеся) въ серединѣ войска, Сѣверяне съ Варягами, и Варяги изо всѣхъ силъ рубились съ Сѣверянами, а Мстиславъ напалъ со своею дружиною, и началъ рубить Варяговъ, и сѣча была сильна; когда освѣщала молнія (поле битвы), оружіе блистало, была и гроза велика, и сѣча сильна и страшна. Ярославъ-же, увидавъ, что его побѣждаютъ, побѣжалъ съ Якуномъ, княземъ варяжскимъ, и Якунъ тутъ потерялъ и плащъ свой золотой; пришелъ Ярославъ въ Новгородъ, а Якунъ ушелъ за море. Мстиславъ-же на разсвѣтѣ на другой день увидѣлъ, что лежатъ убитые изъ числа его Сѣверянъ и изъ Варяговъ Ярославовыхъ, и сказалъ: „кто этому не порадуется? вотъ лежитъ Сѣверянинъ, а вотъ Варягъ, а дружина своя цѣла“. И послалъ Мстиславъ за Ярославомъ, говоря: „садись въ своемъ Кіевѣ, — ты вѣдь старшій братъ, а моею пусть будетъ эта сторона (Днѣпра)“.
Ослѣпленіе Василька.
правитьВъ лѣто 6605 (1097). Пришли Святополкъ, Владиміръ, Давидъ Игоревичъ, и Василько Ростиславичъ, и Давидъ Святославичъ, и братъ его Олегъ, и собрались на съѣздъ въ Любечѣ, для устроенія мира, и говорили между собою такъ: „за что губимъ мы русскую землю, сами на себя устрояя усобицы? А Половцы несутъ розно, разрываютъ нашу землю, и рады тому, что мы между собою воюемъ; соединимся-же нынѣ въ одно сердце, и будемъ оберегать русскую землю, и пусть каждый держитъ свою отчизну: Святополкъ — Кіевъ, Изяславову отчину, Владиміръ — Всеволодову, Давидъ, Олегъ и Ярославъ — Святославову; а тѣ, кому роздалъ города Всеволодъ, пусть также держатъ ихъ: Давидъ — Владиміръ, а изъ Ростиславичей, Володарь — Перемышль, а Василько — Теребовль“. И на томъ цѣловали крестъ, „что если кто отнынѣ на кого поднимется, противъ того будемъ мы всѣ, и этотъ честный крестъ“; всѣ сказали: „пусть будетъ на того крестъ честный и вся русская земля“, и перецѣловавшись, пошли восвояси. И пришелъ Святополкъ съ Давидомъ къ Кіеву, и всѣ люди были рады; одинъ только дьяволъ опечаленъ былъ этою общею любовью, и влѣзъ сатапа въ сердце нѣкоторымъ мужамъ, и стали говорить Давиду Игоревичу, „что Владиміръ сговорился съ Василькомъ противъ тебя и Святополка“. Давидъ повѣрилъ лживымъ словамъ, и сталъ наговаривать (Святополку) на Василька, говоря: „кто убилъ твоего брата, Ярополка? А ныньче замышляетъ и противъ тебя, и противъ меня, и съ Владиміромъ сговорился; позаботься о своей головѣ“. Святополкъ-же смутился умомъ, и говорилъ себѣ: „правда-ли это, или ложь?“ И самъ не могъ рѣшить; и сказалъ потомъ Давиду: „если ты справедливо говоришь, то пусть Богъ тебѣ будетъ свидѣтелемъ; а если изъ зависти говоришь, то Богъ противъ тебя будетъ“. Стало жалко Святополку и брата своего, и себя, и началъ онъ раздумывать: „а что, коли это правда?“ И повѣрилъ онъ Давиду, и прельстилъ Давидъ Святополка, и начали думать о Василькѣ; а Василько и Владиміръ этого не знали. И сталъ говорить Давидъ: „коли мы не захватимъ Василька, то ни тебѣ не княжить въ Кіевѣ, ни мнѣ во Владимірѣ“. И Святополкъ его послушался. И пришелъ Василько 4-го ноября, и переправился на Выдобичъ, и пошелъ поклониться въ монастырь къ Св. Михаилу, и тамъ поужиналъ, а обозъ свой поставилъ на Рудицѣ, и когда уже стемнѣлось, пришелъ къ себѣ въ обозъ. По утру-же прислалъ къ нему Святополкъ, говоря: „не ходи отъ имянинъ моихъ“. Василько-же отговаривался, говоря: „я не могу медлить; дома ожидаетъ война“. И прислалъ къ нему Давидъ, говоря: „не ходи, братъ, не ослушивайся старшаго брата“; но и того Василько не захотѣлъ послушать. И сказалъ Давидъ Святополку: „видишь-ли, онъ и знать тебя не хочетъ, даже и въ твоей волости; а какъ уѣдетъ въ свою волость, такъ и увидишь, что займетъ твои города, Туровъ и Пинскъ, и прочіе города твои: — тогда вотъ и помянешь меня; а по моему, такъ, позвавъ Кіевлянъ, и захвативъ его, отдайте его мнѣ“. И послушалъ его Святополкъ, и послалъ за Василькомъ, говоря: „если ужъ ты не хочешь остаться до имянинъ моихъ, то приди ныньче, поцѣлуй меня, и всѣ вмѣстѣ побудемъ съ Давидомъ“ Василько обѣщался прійти, не зная того, что замышляетъ противъ него Давидъ. Когда-же Василько, сѣвъ на коня, поѣхалъ, то встрѣтилъ его дѣтскій, и сказалъ ему: „не ходи, князь, тебя хотятъ захватить“. И не послушалъ его. Василько, подумавъ: „какъ-же это хотятъ меня захватить? А они-же мнѣ крестъ цѣловали, говоря: кто противъ кого помыслитъ, противъ того и крестъ, и мы всѣ“. И подумавъ, перекрестился и сказалъ: „пусть будетъ воля Господня“. И съ немногими изъ дружины пріѣхалъ онъ на княжескій дворъ; Святополкъ вышедъ ему на встрѣчу, и вошли они въ домъ, и Давидъ пришелъ, и они сѣли. И сталъ говорить Святополкъ: „останься съ нами на праздники“. И сказалъ Василько: ,,не могу остаться, братъ; я ужъ и обозъ свой послалъ впередъ». Давидъ-же сидѣлъ. словно нѣмой; и сказалъ Святополкъ: «завтракай-же съ нами. братъ!»" И обѣщался Василько завтракать. И сказалъ Святополкъ: «вы здѣсь посидите, а я пойду, распоряжусь», — и вышелъ, а Давидъ съ Василькомъ остался сидѣть. И началъ Василько говорить съ Давидомъ, а Давидъ и голоса не подаетъ, и не слушаетъ его: такъ былъ онъ встревоженъ и занятъ своимъ замысломъ. И немного росидѣвъ, Давидъ сказалъ: «гдѣ-же братъ мой?» Ему сказали: «стоитъ въ сѣняхъ». И Давидъ, вставши. сказалъ: ,.я за нимъ схожу, а ты, братъ, посиди". И вышелъ вонъ. И какъ только вышелъ Давидъ, такъ и заперли Василька, 5-го ноября, и оковали его въ двои оковы, и приставили къ нему на ночь стражу. Поутру-же Святополкъ созвалъ бояръ, Кіевлянъ, и передалъ имъ то, что слышалъ отъ Давида, что, молъ, «брата твоего онъ убилъ, и противъ тебя сговорился съ Владиміромъ, и хотятъ убить тебя и занять твои города». И сказали бояре и люди: «тебѣ, князь, слѣдуетъ оберегать свою голову, и если правду сказалъ Давидъ, то пусть Василько будетъ наказанъ; если же неправду (сказалъ Давидъ), то пусть Богъ его накажетъ и пусть онъ отвѣтитъ за это передъ Богомъ». И узнали обо всемъ этомъ игумны, и стали просить Святополка о Василькѣ; и сказалъ имъ Святополкъ: «вотъ вамъ Давидъ (его просите)». Давидъ-же, узнавъ это, сталъ научать, чтобы Василько былъ ослѣпленъ: «если-же этого не сдѣлаешь, а отпустишь его, то ни тебѣ не княжить, ни мнѣ». Святополкъ же хотѣлъ отпустить его; но Давидъ не хотѣлъ, опасаясь его. И въ ту-же ночь отправили его въ Бѣлгородъ, небольшой городокъ, верстахъ въ 10 отъ Кіева, и привезли его туда на повозкѣ, закованнаго, и ссадили съ повозки, и ввели въ небольшую избу. И когда Василько въ избѣ сѣлъ, то увидѣлъ Торчина, который точилъ ножъ, и понялъ, что его хотятъ ослѣпить, и возопилъ къ Богу съ великимъ стенаніемъ и плачемъ. И вотъ, вошли, посланные Святополкомъ и Давидомъ, Сновидъ Изечевичъ, конюхъ Святополковъ, и Дмитрій, конюхъ Давидовъ, и стали разстилать коверъ, и разостлавъ, схватили Василька и хотѣли повалить его и крѣпко боролся онъ съ ними, и не могли его повадить; и вотъ, пришли другіе, повалили его, и связали, и, снявши доску съ печи, положили ему на грудь, и сѣли съ обѣихъ сторонъ Сновидъ Изечевичъ и Дмитрій, и не могли его удержать, и приступило двое другихъ, и сняли другую доску съ печи, и сѣли на нее, и придавили его такъ, что грудь у него затрещала. И подошелъ Торчинъ, именемъ Берендій, овчарь Святополковъ, держа въ рукѣ ножъ, и хотѣлъ ударить его въ глазъ, и промахнулся, и перерѣзалъ ему лице, и рана эта видна у Василька и нынѣ: и потомъ ударилъ его въ глазъ, и вырвалъ одинъ зрачекъ, а потомъ въ другой глазъ, и вырвалъ другой зрачекъ; — тогда Василько сталъ какъ-бы мертвъ. И взяли его на коврѣ, взложили, какъ мертваго, на повозку, и повезли во Владиміръ. И когда везли его, то остановились съ нимъ за Здвиженскимъ мостомъ, на торговой площади, и сняли съ него кровавую сорочку и дали ее выстирать попадьѣ; попадья же, вымывши сорочку, надѣла ее на князя, между тѣмъ, какъ везшіе его обѣдали, и начала попадья плакать надъ нимъ, какъ надъ мертвымъ. И онъ услышалъ плачъ и сказалъ: «гдѣ это я?» Они же сказали: «въ городѣ Здвиженьи». И онъ спросилъ воды, и тѣ дали ему. и когда онъ испилъ воды, то очнулся, и опомнился, и, пощупавъ сорочку свою, сказалъ: «зачѣмъ вы съ меня сняли ее? Пусть бы я въ той сорочкѣ умеръ и сталъ передъ Богомъ». Когда же они отобѣдали, то повезли его поспѣшно, хоть и по грудѣ, такъ-какъ тогда былъ мѣсяцъ грудень, иначе сказать ноябрь, и пришли съ нимъ къ Владиміру въ 6-й день. Съ нимъ вмѣстѣ пришелъ и Давидъ, словно какой-нибудь уловъ уловивъ, и посадили Василько въ дворѣ Вакѣевѣ, и приставили къ нему 30 человѣкъ стражи и 2-хъ отроковъ княжескихъ, Улана и Колчко. Владиміръ-же (Мономахъ), услышавъ, что Василько былъ взятъ и ослѣпленъ, ужаснулся и, заплакавъ, сказалъ: «этого не бывало еще въ русской землѣ ни при дѣдахъ нашихъ, ни при отцахъ нашихъ, такого зла, чтобы кто ввергъ въ насъ ножъ». И тутъ послалъ онъ къ Давиду и къ Олегу Святославичамъ, говоря: «ступайте къ Городцу, чтобы намъ исправить это зло, которое нынѣ произошло въ русской землѣ и въ нашей братіи; если этого не исправимъ, то еще большее зло проявится между нами, и начнетъ закалывать братъ брата, и погибнетъ земля русская, и враги наши, Половцы, прійдутъ и возьмутъ землю русскую».
Услышавъ объ этомъ, Давидъ и Олегъ были очень опечалены, и плакали, говоря: «этого еще въ нашемъ родѣ не бывало» — и вотъ, собрали воиновъ, и пришли ко Владиміру. И между тѣмъ, какъ Владиміръ (съ войскомъ) стоялъ въ бору, онъ и Давидъ, и Олегъ послали мужей своихъ сказать Святополку: «зачѣмъ сотворилъ ты это зло въ русской землѣ и ввергъ въ насъ ножъ? Зачѣмъ ослѣпилъ брата своего? Если-бы онъ былъ виноватъ въ чемъ-нибудь предъ тобою, то ты-бы долженъ былъ уличить его передъ нами, и, укоривъ его, наказалъ бы его, а теперь объяви вину его, коли ужъ ты ему это сдѣлалъ». И сказалъ Святополкъ, что вотъ повѣдалъ мнѣ Давидъ Игоревичъ, что Василько убилъ брата твоего, Ярополка, и тебя тоже хочетъ убить и захватить твою волость — Туровъ и Пиньскъ, и Берестье, и Погорину, а и поклялись они съ Владиміромъ, чтобы .сѣсть Владиміру въ Кіевѣ, а Васильку — во Владимірѣ; а я не могу же не беречь своей головы, и притомъ же не я его ослѣпилъ, а Давидъ, и даже увелъ его къ себѣ". И сказали посланные Владиміровы, Давидовы и Олеговы: «не отговаривайся тѣмъ, что Давидъ его ослѣпилъ: не въ Давидовомъ городѣ взятъ онъ и ослѣпленъ, а въ твоемъ»; и послѣ того, какъ это было сказано, они разошлись. Поутру же, когда они хотѣли переправиться черезъ Днѣпръ, на Святополка, тотъ хотѣлъ бѣжать изъ Кіева; и не позволили ему бѣжать Кіевляне, но отправили вдову Всеволодову и митрополита Николу къ Владиміру, говоря: ,.умоляемъ тебя, князь, и братьевъ твоихъ, не губите русской земли; вѣдь если затѣете войну между собою, то поганые станутъ радоваться, и захватятъ землю нашу, которую стяжали отцы и дѣды, съ великимъ трудомъ и мужествомъ борясь за русскую землю, и пріискивая иныхъ земель; а вы хотите погубить русскую землю". Вдова Всеволодова и митрополитъ пришли къ Владиміру, и умоляли его, и передали ему мольбу Кіевлянъ о томъ, чтобы не нарушать міра, оберегать и сохранять землю русскую, и коливоевать, то ужъ съ погаными. Услышавъ это, Владиміръ расплакался и сказалъ: «и точно, что отцы наши и дѣды сохранили землю русскую, а мы хотимъ погубить ее», и склонился на мольбы княгини, ибо почиталъ ее какъ мать, ради своего отца, такъ какъ онъ очень былъ любимъ отцемъ своимъ. и при жизни его, и по смерти ни въ чемъ не ослушивался его; потому-то и ея (княгини) послушался, какъ матери, и митрополита, изъ уваженія къ его святительскому сану. Владиміръ такой-то и былъ снисходительный; любилъ и митрополитовъ, и епископовъ, и игумновъ, особенно любилъ чернецовъ и черницъ, и приходящихъ къ нему питалъ и поилъ, какъ мать — дѣтей своихъ; и если видѣлъ, что кто-нибудь шумитъ или дѣлаетъ что зазорное, то не осуждалъ. но все любовью старался уладить. Но мы возвратимся къ своему (разсказу). Княгиня, побывавши у Владиміра, вернулась въ Кіевъ и передала всѣ рѣчи Святополку и Кіевлянамъ, что будетъ миръ. И стали они между собою пересылать мужей и помирились на томъ, что сказали Святополку: «такъ какъ это Давидово коварство; то иди же и ты, Свято-полкъ, на Давида, и либо захвати его, либо прогони». Святополкъ на это согласился, и цѣловали на томъ между собою крестъ, помирившись.
Василько же между тѣмъ оставался во Владимірѣ, на вышесказанномъ мѣстѣ, и когда приблизился великій постъ, и я тутъ-же былъ во Владимірѣ, однажды ночью прислалъ за мною князь Давидъ. И пришелъ я къ нему, и сидѣла около него дружина его и посадилъ онъ меня, и сказалъ мнѣ: «Василько вотъ что говорилъ сегодня ночью Улану и Колчкѣ: слышу я, что идетъ Владиміръ и Святополкъ на Давида; кабы послушалъ меня Давидъ. то я бы послалъ мужа своего къ Владиміру (упросиль-бы его) воротиться; я ужъ зналъ-бы, что сказать ему, и онъ бы не пошелъ (на Давида). Такъ вотъ, Василь, шлю тебя, иди къ Васильку, своему тезкѣ, съ этими отроками, и скажи ему такъ: если ты хочешь послать своего мужа, и Владиміръ точно воротился, то я тебѣ отдамъ любой изъ моихъ городовъ: либо Всеволожъ, либо Шеполь, либо Перемышль». Я же пошелъ къ Васильку, и передалъ ему всѣ рѣчи Давидовы. Онъ-же сказалъ: «я этого не говорилъ; но надѣюсь на Бога, и пошлю (къ Владиміру), дабы не проливали изъ-за меня крови; по мнѣ это странно: — даетъ мнѣ свой городъ, а что же мой-то Теребовль, моя волость?» Обращаясь ко мнѣ, онъ сказалъ: «иди къ Давиду и скажи ему: пусть пришлетъ мнѣ Кульмѣя, такъ я пошлю къ Владиміру». И не дослушалъ его Давидъ, и вторично послалъ меня сказать: «нѣтъ Кульмѣя». И сказалъ мнѣ Василько: «посиди немного со мною», и велѣлъ слугѣ своему выйти вонъ, и, оставшись со мною (наединѣ), началъ мнѣ говорить: «слышу я, что Давидъ хочетъ выдать меня Ляхамъ; видно мало онъ еще насытился крови моей, и теперь хочетъ болѣе насытиться, выдавая меня имъ: я вѣдь Ляхамъ много зла сдѣлалъ, и хотѣлъ еще сдѣлать, и мстить за русскую землю. Если и выдастъ онъ меня Ляхамъ, то я не боюсь смерти; но вотъ что скажу тебѣ: поистинѣ все это Богъ напустилъ на меня за мое высокомѣріе, потому, какъ пришла ко мнѣ вѣсть, что идутъ ко мнѣ Берендичи, и Печенѣги, и Торки, я и сказалъ самъ себѣ: какъ будутъ у меня Берендичи, Печенѣги да Торки, тогда скажу брату своему Володарю и Давиду: „дайте мнѣ младшую свою дружину, а сами пейте и веселитесь“. И помыслилъ я такъ: зимой наступлю на ляшскую землю, и на лѣто захвачу землю ляшскую, и отомщу за русскую землю; и послѣ этого хотѣлъ перехватить Болгаръ дунайскихъ и поселить ихъ у себя; а потомъ хотѣлъ проситься у Святополка и у Владиміра идти на Половцевъ, дабы или славы себѣ добыть, или голову свою сложить за русскую землю. Другого помышленія въ сердцѣ моемъ не было ни противъ Святополка, ни противъ Давида, и вотъ Богомъ клянусь и Его пришествіемъ, что ничего злого не умышлялъ противъ братіи своей; но Богъ низложилъ меня и смирилъ за мое высокомѣріе». Послѣ этого, когда приближалась Пасха, Давидъ пошелъ (съ войскомъ), думая захватить Василькову волость; и встрѣтилъ его Володарь, братъ Васильковъ, у Божьска, и не смѣлъ Давидъ выступить противъ Василькова брата Володаря, и затворился въ Божьскѣ, а Володарь осадилъ его въ городѣ. И сталъ говорить Вододарь: «какъ-же это ты сдѣлалъ зло и еще не каешься? Опомнись-же, сколько уже зла ты надѣлалъ?» Давидъ-же сталъ сваливать вину на Святополка, говоря: «развѣ это я сдѣлалъ? Или въ моемъ городѣ это случилось? Я и самъ-то опасался, чтобы меня самого не схватили, и со мною-бы того же не сдѣлали: по неволѣ долженъ я былъ участвовать въ умыслѣ ихъ и поступать по ихъ волѣ». И сказалъ Володарь: «Богъ тому свидѣтель; а нынѣ отпусти брата моего, и я съ тобой помирюсь». И обрадовался Давидъ, послалъ за Василькомъ, и, приведя его, передалъ Володарю, и помирились они, и разошлись. И сѣлъ Василько въ Теребовлѣ, а Давидъ ушелъ во Владиміръ.
Когда же наступила весна, пришелъ Володарь съ Василькомъ на Давида, и пришли къ Всеволожью, а Давидъ затворился во Владимірѣ. Они же, какъ стали около Всеволожа, такъ взяли городъ копьемъ и зажгли его; и побѣжали люди отъ огня, и повелѣлъ Василько всѣхъ рубить, и отомстилъ на людяхъ неповинныхъ и пролилъ неповинную кровь. Затѣмъ же пришли къ Владиміру, и затворился Давидъ во Владимірѣ, и тѣ обступили городъ, и послали сказать Владимірцамъ: «мы оба пришли ни противъ вашего города воевать, ни противъ васъ, но противъ враговъ своихъ, Туряка и Лазаря, и Васидя, ибо они-то и надоумили Давида, и ихъ-то послушалъ Давидъ и сотворилъ это зло; и если вы хотите за нихъ биться, такъ вотъ мы готовы; а не то выдайте намъ враговъ нашихъ». Горожане же, услышавъ это, созвали вѣче, и сказали Давиду: «выдай этихъ мужей, не станемъ биться за нихъ, а за тебя можемъ биться; если же нѣтъ, то отворимъ ворота городскія, и промышляй тогда самъ о себѣ». И по неволѣ приходилось ихъ вы-дать. И сказалъ Дазидъ: «нѣтъ ихъ здѣсь», ибо (уже прежде того) послалъ ихъ въ Лучьскъ; и между тѣмъ какъ тѣ пошли къ Лучьску, Турякъ бѣжалъ въ Кіевъ, а Лазарь и Василь возвратились въ Турійскъ. И услышали люди, что они въ Турійскѣ, и крикнули на Давида: «выдай тѣхъ, кого отъ тебя требуютъ: если же не выдашь, то передадимся». Давидъ же послалъ, привелъ Василя и Лазаря, и выдалъ ихъ; и помирились они въ воскресенье, а на другой день, на зарѣ, Васильковичи повѣсили Василя и Лазаря, и, разстрѣлявъ ихъ стрѣлами, удалились отъ города. Это уже второе мщеніе сотворилъ (Василько), которое бы творить не слѣдовало, дабы Богъ былъ за него мстителемъ, — на Бога слѣдовало возложить мщеніе свое….. Когда же (князья) удалились отъ города, (горожане) повѣшенныхъ сняли и погребли ихъ.
Такъ какъ Святополкъ обѣщался прогнать Давида, то онъ и пошелъ къ Берестью, къ Ляхамъ; услышавъ объ этомъ, и Давидъ пошелъ въ Ляхи, къ Владиславу, искать помощи. Ляхи же обѣщались ему помогать, и, взявъ у него 50 гривенъ золота, сказали: «пойди съ нами къ Берестью, насъ вотъ зоветъ Святополкъ на сеймъ, тамъ и помиримъ тебя со Святополкомъ». И послушалъ ихъ Давидъ, пошелъ къ Берестью съ Владиславомъ. И сталъ Святополкъ въ городѣ, а Ляхи на Бугѣ, и сговорился Святополкъ съ Ляхами, и далъ большіе дары имъ (чтобы не стояли за Давида); и сказалъ Владиславъ Давиду: «не слушаетъ меня Святополкъ; уходи къ себѣ». И пришелъ Давидъ во Владиміръ, и Святополкъ, посовѣтовавшись съ Ляхами, пошелъ къ Пинску и послалъ за войскомъ. Прійдя къ Дорогобужу, дождался онъ тутъ своего войска, и пошелъ къ городу на, Давида, и Давидъ затворился въ городѣ, ожидая помощи отъ Ляховъ, ибо тѣ ему сказали: «вотъ какъ прійдутъ на тебя Русскіе князья, то мы тебѣ и поможемъ», — и солгали *ему, забирая золото и у Давида, и у Святополка. Святополкъ же обступилъ городъ и стоялъ около города 7 недѣль; и началъ Давидъ умолять его: «отпусти меня изъ города». Святополкъ же обѣщалъ ему, и цѣловали на томъ между собою крестъ, и вышелъ онъ изъ города, и пришелъ въ Червень; а Святополкъ вошелъ въ городъ въ великую субботу; а Давидъ бѣжалъ въ Ляхи.
Святополкъ же, прогнавъ Давида, началъ замышлять противъ Володаря и Василька, говоря, «что и это вѣдь тоже волость отца моего и брата» — и пошелъ противъ нихъ. Услышавъ это, Володарь и Василько пошли противъ него, взявъ съ собою тотъ крестъ, который онъ имъ цѣловалъ на томъ, что «я, молъ, пришелъ на Давида, а съ вами хочу имѣть миръ и любовь». И преступилъ Святополкъ то крестное цѣлованіе, надѣясь на множество воиновъ своихъ. И встрѣтились они на подѣ, на Рожни; и когда обѣ (стороны) исполчились, Василько поднялъ крестъ, говоря: «не этотъ-ли крестъ ты цѣловалъ? И вотъ сначала отнялъ у меня зракъ очей моихъ, а ныньче хочешь и душу отнять; пусть же будетъ между нами этотъ крестъ». И потомъ они разошлись (чтобы приготовиться) къ бою, и сошлись полки, и многіе благочестивые люди видѣли крестъ, явственно возвышавшійся надъ Васильковыми воинами. Когда же битва завязалась большая и многіе стали падать съ обѣихъ сторонъ, и увидѣлъ Святополкъ, какъ люта битва, то побѣжалъ, и прибѣжалъ къ Владиміру; Володарь же и Василько, побѣдивши, стали тутъ же, говоря: «довольно намъ того, что мы станемъ на своей межѣ», — и не пошли никуда болѣе.
Половецкій пѣвецъ.
правитьВъ лѣто 6709 (1202 г.) (Романъ) устремился на поганыхъ, словно левъ, сердитъ же былъ, словно рысь, и губилъ (ихъ), словно крокодилъ, а землю ихъ орломъ перелеталъ (изъ конца въ конецъ), и храбръ былъ, какъ туръ. Соревновалъ онъ дѣду своему Мономаху, погубившему поганыхъ Измаильтянъ, называемыхъ Половцами, изгнавшему Отрока въ Обезы (Абхазію) за Желѣзныя ворота, между тѣмъ какъ Сырчанъ, оставшись у Дона, обернулся рыбою; въ то время Владиміръ Мономахъ пилъ золотымъ шлемомъ изъ Дона, захвативъ всю землю ихъ и загнавъ окаянныхъ Агарянъ. По смерти же Владиміра, такъ какъ у Сырчана остался всего одинъ пѣвецъ, Оревъ, то онъ послалъ его въ Обезы, сказать: «Владиміръ умеръ, такъ воротись же, братъ, пойди въ свою землю». (Ореву же сказалъ Сырчанъ): «передай ему мои слова, да пой же ему пѣсни половецкія; если же тебя не захочетъ (послушать), дай ему понюхать травы, которая зовется евшанъ». Такъ какъ тотъ (Отрокъ, братъ Сырчана) не захотѣлъ ни воротиться, ни послушать (Орева-пѣвца), то (Оревъ) далъ ему (понюхать той) травы; когда Отрокъ понюхадъ, то заплакалъ и сказалъ: «ужъ лучше на своей землѣ костью лечь, нежели на чужой славнымъ быть». И пришелъ обратно въ свою землю, и отъ него-то родился Кончакъ, (тотъ самый) что снесъ Сулу, пѣшкомъ идучи, и котелъ неся на плечахъ.
Мстиславъ Удалый. — Липицкая битва. — Твердиславъ.
правитьВъ лѣто 6723 (1212 г.). Пошелъ князь Мстиславъ 1) по своей волѣ къ Кіеву, и созвалъ вѣче на Ярославовомъ дворѣ, и сказалъ Новгородцамъ: «у меня дѣла въ Руси, и вы вольны въ князьяхъ». Въ то же лѣто Новгородцы, много гадавши, послали за Ярославомъ за Всеволодовичемъ, за Юрьевымъ внукомъ, Юрія Ивановича посадника и Якуна тысяцкаго, и старѣйшихъ купцевъ десять человѣкъ; и вошелъ князь Ярославъ въ Новгородъ, и встрѣтилъ его архіепископъ Антонъ съ Новгородцами. Въ то же лѣто князь Ярославъ захватилъ Якуна Зуболомича, а потомъ послалъ за Ѳомою Доброщиничемъ новоторжскимъ посадникомъ, и, оковавъ, посадилъ обоихъ въ заточеніе въ Твери; и по грѣхамъ нашимъ, Ѳеодоръ Лазутиничъ, и Иворъ Новоторжичъ обнесли (передъ княземъ) Якуна Намнѣжича тысяцкаго; князь же Ярославъ созвалъ вѣче на Ярославовомъ дворѣ, пошли на Якуновъ дворъ, и разграбили (дворъ), и жену его взяли, а Якущь на другой день пошелъ съ посадникомъ къ князю, и князь приказалъ схватить сына его, Христофора, въ 21-й день мая. Тогда же, на Соборъ (всѣхъ святыхъ), Прусы (т. е. жители Прусскаго конца) убили Оветрота и сына его Луготу, и мертвыхъ бросили ихъ на греблю; князь же на это ложаловался Новгородцамъ. Въ то же лѣто пошелъ князь Ярославъ на Торжокъ, взявъ съ собою Твердислава Михайловича, Никифора Полюда, Сбыслава, Семена, Ольксу и многихъ бояръ, и, одаривъ ихъ, прислалъ ихъ въ Новгородъ; а самъ сидѣлъ все въ Торжкѣ. Въ ту же осень много зла сдѣлалось: морозъ побилъ весь хлѣбъ по волости; а въ Торжкѣ все цѣло было, и захватилъ князь все въ Торжкѣ, и не пустилъ въ городъ (т. е. въ Новгородъ) ни воза (съ хлѣбомъ); и послали за княземъ Семена Борисовича, Вячеслава Климятича, Зубца Якуна, и тѣхъ онъ захватилъ, и всѣхъ кого ни посылали, всѣхъ захваты-валъ. А въ Новѣгородѣ очень было плохо: кадь ржи покупали по десяти гривенъ, а овса по три гривны, а рѣпы возъ по 2 гривны, люди ѣли сосновую кору, и листья липовые, и мохъ… О, горе тогда было, братья! Дѣтей своихъ отдавали задаромъ, и поставили скудельницу, и наметали ее полную (труповъ). О горе было! и по торгу валялись трупы, и по улицамъ, и по полю — псы не успѣвали поѣдать ихъ!… Новгородцы-же, оставшіеся въ живыхъ. послали Юрія Иванковича посадника, и Степана Твердиславича, и другихъ мужей за княземъ; онъ и тѣхъ захватилъ, а въ Новгородъ прислалъ Ивора и Чацоноеа, вывелъ оттуда къ себѣ свою княгиню, дочь Мстислава (Удалаго). Послѣ этого послали къ нему Мануила Ягольчевича, съ послѣднимъ словомъ: «пойди въ свою отчину къ Св. Софіи; если же не хочешь пойти, то извѣсти насъ», — Ярославъ же и тѣхъ не отпустилъ, а гостей новгородскихъ всѣхъ забралъ, и былъ въ Новѣгородѣ вопль и печаль.
1) Здѣсь идетъ рѣчь о Мстиславѣ Удаломъ, сынѣ Мстислава Храбраго.
Тогда же, Мстиславъ Мстиславичъ, прослышавъ про эту бѣду, въѣхалъ въ Новгородъ въ 11-й день февраля, и захватилъ Хота Григорьевича, намѣстника Ярославова, и перековалъ всѣхъ дворянъ; и выѣхалъ на Ярославовъ дворъ и цѣловалъ честный крестъ, а Новгородцы — ему цѣловали, чтобы (быть) съ нимъ вмѣстѣ и на жизнь, и на смерть: «либо взыщу мужей новгородскихъ и волости» (новгородскія — сказалъ Мстиславъ), — «либо голову положу за Новгородъ»… И послалъ князь Мстиславъ съ Новгородцами, къ Ярославу, въ Торжокъ, попа Юрія (изъ церкви) св. Іоанна на Торговищѣ, и своего мужа съ нимъ отправилъ. «Сынъ мой», (велѣлъ сказать Мстиславъ Ярославу:) «кланяюсь тебѣ; мужа моего и гостей отпусти, а самъ съ Торжка пойди, а со мной примирись». Князю же Ярославу было это нелюбо; онъ отпустилъ попа безъ мира, а Новгородцевъ созвалъ на поле, за Торжкомъ, въ мясопустную субботу, всѣхъ мужей и купцевъ, и, перековавъ, похваталъ ихъ всѣхъ, послалъ по своимъ городамъ, а товары ихъ и коней роздалъ; а всѣхъ Новгородцевъ было тамъ болѣе 2000. — (Когда же) вѣсть о томъ пришла въ Новгородъ…. Князь Мстиславъ собралъ вѣче на Ярославовѣ дворѣ: «пойдемъ», сказалъ онъ, «поищемъ мужеп своихъ, вашей братіи и волости своей; да не будетъ Новый Торгъ Новгородомъ, ни Новгородъ — Торжкомъ, а гдѣ Св. Софія, тутъ и Новгороду (быть); а и въ многомъ Богъ, и въ маломъ — Богъ и правда».
Въ лѣто 6724 (1216), мѣсяца марта въ 1-й день во вторникъ послѣ чистой недѣли, пошелъ князь Мстиславъ на зятя своего Ярослава съ Новгородцами, а въ четвергъ побѣжали къ Ярославу преступники кресту, которые цѣловали крестъ честный къ Мстиславу со всѣми Новгородцами, въ томъ, чтобы всѣмъ быть за одно: Владиславъ Завидичъ, Гаврила Игоревичъ, Юрій Олексиничъ, Гаврилецъ Милятиничъ, и съ женами, и съ дѣтьми. Мстиславъ же пошелъ Селигеромъ, и вошелъ въ свою волость, и сказалъ Новгородцамъ: «идите въ зажитіе, только головъ не захватывайте»; — пошли и запаслись кормомь, и для себя, и для коней. — Ярославъ-же пошелъ отъ Торжка, захвативъ съ собою старѣйшихъ мужей Новгородскихъ и молодыхъ по выбору, а новоторжцевъ всѣхъ, и пришелъ къ Переяславлю, и скопилъ волость свою всю, а Юрій свою, Владиміръ — также, и Святославъ — также, и вышелъ (Ярославъ) изъ Переяславля съ полками, и съ Новгородцами, и съ Новоторжцами, даже страшно и дивно было смотрѣть, братья! Пошли сыновья на отца, братъ на брата, рабъ на господина, господинъ на рабовъ! И сталъ Ярославъ и Юрій съ братьями на рѣкѣ Кзѣ; Мстиславъ же и Константинъ, и два Владиміра, съ Новгородцами; стали на рѣкѣ Липицѣ. И увидѣли они стоявшіе передъ ними полки и послали Ларіона сотскаго къ Юрію (сказать): «кланяемся тебѣ, нѣтъ у насъ съ тобою обиды, съ Ярославомъ у насъ обида». Отвѣчалъ князь Юрій: «мы съ Ярославомъ братья». И послали къ Ярославу сказать: «отпусти мужей нашихъ Новгородцевъ и Новоторжцевъ, возврати Волокъ, который захватилъ отъ нашей-же Новгородской волости, помирись съ нами и крестъ намъ цѣлуй, а крови не будемъ проливать». Отвѣчалъ (Ярославъ): «мира не хотимъ, а мужи (ваши) у меня; а вы видно далеко зашли — вышли какъ рыбы на сушу». И сказалъ Ларіонъ ту рѣчь (князю Мстиславу и Новгородцамъ), и сказали Новгородцы: «князь, не хотимъ мы вымирать на коняхъ, но какъ отцы наши бились пѣшіе на Кулачскѣ (такъ и мы будемъ теперь биться)»; князь-же Мстиславъ былъ этому радъ. Новгородцы-же, спѣшившись и сбросивъ съ себя одежду, устремились (въ битву) босые, поскидавъ съ себя сапоги; а Мстиславъ, вслѣдъ за ними, поѣхалъ на коняхъ. И сошлось войско новгородское съ Ярославовымъ войскомъ, и такъ, Божьею силою и помощью св. Софіи, одолѣлъ Мстиславъ, а Ярославъ и войско его обратилось въ бѣгство; Юрій-же стоялъ вмѣстѣ съ Константиномъ, и — увидѣвъ, что Ярославово войско побѣжало, мѣсяца апрѣля въ 21-е (число), на день св. Тимоѳея и Ѳеодора и Александры Царицы — не устоялъ. О; велика (была) побѣда, братья! Однихъ убитыхъ и связанныхъ такое множество, что и пересчитать трудно! — О, великъ, братья, промыслъ Божій! Въ той битвѣ воиновъ Юрьевыхъ и Ярославовыхъ пало безъ числа, а Новгородцевъ убили въ схваткѣ: — Дмитрія Псковитина, да Антона котельника, да Ивана Прибышинича; а въ загонѣ, Иванка Поповича, Семена Петриловича, терскаго данника. Пришелъ Мстиславъ въ Новгородъ, и радъ былъ владыка и всѣ Новгородцы. Тогда отняли посадничество у Юрія у Иванковича, и отдали Твердиславу Михалковичу.
Въ лѣто 6726 (1218). Разнесся ложный слухъ по городу, будто Твердиславъ выдалъ князю Матея (Душильчевича). И звонили на той сторонѣ у Св. Николы всю ночь, а въ Неревскомъ концѣ у 40 святыхъ, тоже скопляя людей на Твердислава; а на слѣдующій день пустилъ князь Матея, предвидя г_о_л_к_у (бунтъ) и мятежъ въ городѣ. И пошли съ той стороны всѣ, даже до дѣтей, въ броняхъ, словно на войну, и Неревляне тоже; а Загородцы не пристали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Твердисдавъ-же, взглянувъ на Св. Софію, сказалъ: «коли я виноватъ въ чемъ, такъ пусть я здѣсь-же и умру; а коли я правъ, такъ ты и оправдай меня, Господи!…» И пошелъ съ Людинымъ концемъ и съ Прусами; и была сѣча у городскихъ воротъ, и побѣжали на ту сторону (Волхова), а другіе ночью и мостъ разломали; и переправились съ той стороны (граждане) на лодкахъ и пошли(на городъ, на кремль) силою. О, великое чудо проявилъ окаянный дьяволъ! Когда-бы слѣдовало имъ воевать съ погаными, тогда они начали биться между собою, и убили мужа съ Прусскаго конца. и на другомъ концѣ одного, а съ той стороны Ивана Душильчевича, брата Матеева, а въ Неревскомъ концѣ Коснятина Прокопьинича и другихъ еще 6 человѣкъ; а раненыхъ много было съ обѣихъ сторонъ; случилось-же это мѣсяца генваря въ 27-е (число) на день Св. Іоанна Златоустаго. И такъ вѣча длились цѣлую недѣлю; но дьяволъ былъ попранъ Богомъ и Св. Софіею, и крестъ возвеличенъ: братья сошлись вмѣстѣ единодушно, и крестъ цѣловали; князь-же Святославъ прислалъ своего тысяцкаго на вѣче сказать: «не могу быть съ Твердиславомъ, и отнимаю отъ него посадничество». Новгородцы сказали: «а въ чемъ-же его вина?» Онъ-же отвѣчалъ: «безъ вины». Сказалъ Твердиславъ: «я радъ тому, что вины моей нѣтъ; а вы, братья, (вольны) и въ посадничествѣ, и въ князьяхъ». Новгородцы же отвѣчали: «князь, если нѣтъ его вины, то вѣдь ты-же намъ крестъ цѣловалъ, что безъ вины никого отставлять не будешь; а тебѣ мы кланяемся, а это нашъ посадникъ; и этому мы не поддадимся»; и водворилось спокойствіе.
Въ лѣто 6728 (1220). Пришелъ князь Всеволодъ изъ Смоленска въ Торжокъ; дьяволъ-же, не желая добра христіанскому роду, вмѣстѣ со злыми людьми, вложилъ князю грѣхъ въ сердце, гнѣвъ на Твердислава, а безъ вины; и пришелъ въ Новгородъ, и поднялъ весь городъ, замышляя убить Твердислава; а Твердиславъ былъ боленъ, и пошелъ князь Всеволодъ съ Городища, со всѣмъ дворомъ своимъ, окрутившись въ броню словно воевать шелъ, и пріѣхалъ на Ярославовъ дворъ, и сошлись Новгородцы къ нему, въ оружіи, и стали полкомъ на княжомъ дворѣ. Твердиславъ-же былъ боленъ, и вывезли его на санкахъ къ Борису и Глѣбу, и собрались около него Прусы, и Людинъ конецъ, и Загородцы, и стали около него полкомъ, расположившись 5-ю отрядами; князь-же, увидѣвъ ряды ихъ (и понявъ, что) они хотятъ крѣпко постоять за себя, не поѣхалъ на нихъ, но прислалъ владыку Митрофана со всякими добрыми вѣстями; и свелъ ихъ владыка снова въ любовь, и крестъ цѣловали и князь, и Твердиславъ; такъ Богомъ и Св. Софіею крестъ былъ возвеличенъ, и дьяволъ попранъ, а братья всѣ были за одно. Твердиславъ-же, помирившись съ княземъ, отказался отъ посадничества, такъ какъ былъ боленъ; и дали посадничества Иванку Дмитровичу.
А (Твердиславъ) проболѣлъ семь недѣль, и разболѣлся еще больше, и, утаившись отъ жены и дѣтей и всей братіи, отправился къ св. Богородицѣ въ Аркажь монастырь, и постригся тамъ въ 8 день февраля; тогда-же и жена его постриглась въ другомъ монастырѣ у св. Варвары.


IV.
правитьУспѣхи образованности на Руси. — Религіозное направленіе образованія. — Первыя попытки создать литературу свѣтскую: поученіе Мономаха и посланіе Даніила Заточника.
правитьМы уже видѣли, что христіанство послужило источникомъ просвѣщенія для Россіи и дало первый толчокъ къ введенію у насъ грамотности. Грамотность нашла себѣ въ началѣ много благопріятныхъ условій къ распространенію. Къ числу этихъ условій, конечно, слѣдуетъ отнести постоянныя сношенія съ Византіей и тѣсныя связи наши съ Польшей и Венгріей, черезъ которыя къ намъ проникалъ не только латинскій языкъ, но даже и отголоски историческихъ событій, волновавшихъ Европу. А такъ какъ распространеніе грамотности шло рука объ руку съ распространеніемъ христіанства, то грамотность считалась необходимою для всякаго ревностнаго христіанина, потому что чтеніе книгъ могло утвердить его въ вѣрѣ и благочестіи. Отсюда, конечно, рождался взглядъ на грамотность и образованность, не какъ на средство для общаго развитія умственныхъ и душевныхъ способностей человѣка, а только, какъ на средство къ удовлетворенію потребностей благочестія. Вотъ почему наши грамотные предки XI и XII столѣтія, собирая около себя довольно значительныя книгохранилища, читая и переписывая книги или переводя ихъ съ греческаго, преимущественно ограничивались областью книгъ религіозныхъ и духовно-нравственныхъ и даже всему тому, что не имѣло прямого отношенія къ религіи, старались придать оттѣнокъ религіозный — все стремились поставить въ ту прямую, непосредственную зависимость отъ религіи, въ какую они ставили и первѣй-шую изъ потребностей человѣка: — стремленіе къ грамотности, къ образованію. Эта сторона древне-русской жизни высказывается особенно ясно въ тѣхъ свѣдѣніяхъ, какія сохранились намъ у древнихъ лѣтописцевъ нашихъ о первыхъ шагахъ просвѣщенія въ Россіи.
Сыновья и внуки Ярослава Мудраго наслѣдовали отъ него любовь къ распространенію грамотности и къ собиранію книгъ. Сынъ Ярослава, Святославъ, собиралъ много книгъ, которыми «наполнилъ клѣти свои» 1). Другой сынъ его, Всеволодъ, былъ извѣстенъ, какъ образованнѣйшій человѣкъ своего времени; по современному свидѣтельству, онъ зналъ пять языковъ, въ числѣ которыхъ, вѣроятно, должно разумѣть и греческій. Внукъ Ярослава и сынъ Всеволода, Мономахъ, какъ видно изъ дошедшаго до насъ сочиненія его, тоже отличался обширною религіозною начитанностью. Внукъ Мономаха, великій князь Михаилъ Юрьевичъ, «с_ъ г_р_е_к_и и л_а_т_и_н_ы г_о_в_о_р_и_л_ъ и_х_ъ я_з_ы_к_о_м_ъ, я_к_о р_у_с_с_к_і_й». О Романѣ Ростиславичѣ Смоленскомъ лѣтописецъ разсказываетъ, что онъ прилагалъ особенную заботу къ обученію духовенства, и всѣ усилія устремлялъ на устройство училищъ, въ которыхъ, между прочимъ, нанятые имъ учителя обучали и греческому, и латинскому языку; на это издержалъ онъ все свое имѣніе, такъ что его, по смерти, не на что было и похоронить и благодарные Смольняне погребли его на свой счетъ. О Ярославѣ Владиміровичѣ Галицкомъ говорится, что онъ зналъ иностранные языки и такъ много прочелъ книгъ, что могъ даже самъ «н_а_с_т_а_в_л_я_т_ь п_р_а_в_о_й в_ѣ_р_ѣ», побуждалъ духовенство учить мірянъ, и опредѣлялъ монаховъ учителями въ училища, которыя содержались на счетъ монастырскихъ доходовъ. О Константинѣ Всеволодовичѣ также говоритъ лѣтописецъ, что онъ всѣхъ «у_м_у_д_р_я_л_ъ д_у_х_о_в_н_ы_м_и б_е_с_ѣ_д_а_м_и», потому что часто и прилежно читалъ книги, которыхъ собралъ около себя множество: однѣхъ греческихъ книгъ было у него болѣе тысячи, изъ которыхъ большую часть онъ самъ купилъ, а нѣкоторую часть получилъ въ даръ отъ патріарховъ. При дворѣ его даже постоянно жили приглашенные имъ изъ Греціи ученые греки. Но въ особенности характеризующими то отдаленное время являются извѣстія, сохранившіяся намъ о двухъ замѣчательныхъ людяхъ ХІІ-го столѣтія: Николаѣ Святославичѣ, князѣ черниговскомъ, и Евфросиніи Полоцкой, дочери князя полоцкаго Георгія.
1) Изъ этихъ книгъ до нашего времени уцѣлѣли два сборника статей различнаго содержанія, извѣстные подъ названіемъ: «Изборниковъ Святослава». См. выше, упоминаніе о нихъ на стр. 26.
Николай Святоша, внукъ того Святослава Ярославича, который «наполнилъ клѣти свои книгами», отличался также, какъ и дѣдъ его, замѣчательною страстью къ книжному ученью и къ собиранію книгъ. Въ самомъ началѣ XII вѣка, слѣдуя призванію своему, онъ постригся въ монахи въ Кіево-печерскомъ монастырѣ и свое богатое собраніе книгъ принесъ въ даръ обители, въ которой явился однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и смиреннѣншихъ иноковъ. Онъ исполнялъ наравнѣ съ остальною братіею всѣ обязанности и несъ на себѣ всѣ труды простого монаха: такъ онъ былъ привратникомъ монастырскимъ, рубилъ дрова и носилъ воду, готовилъ кушанье на братію; а казну свою онъ употреблялъ на украшеніе храма и на пополненіе своего книгохранилища.
Евфросинія Полоцкая, до поступленія своего въ монастырь носившая имя Предиславы, постригшись очень молодою, съ разрѣшенія епископа поселилась въ небольшой кельѣ, пристроенной къ полоцкому Софійскому собору, и вполнѣ посвятила себя духовной дѣятельности; она занялась здѣсь списываніемъ священныхъ книгъ, которыя отдавала въ продажу, а деньги, вырученныя отъ продажи ихъ, раздавала нищимъ. Въ глубокой старости, Евфросинія совершила еще и другой подвигъ благочестія — отправилась въ Св. Землю на поклоненіе Гробу Господню, подобно многимъ другимъ современникамъ своимъ, такъ какъ въ это время путешествія русскихъ людей въ Св. Землю были явленіемъ довольно обыкновеннымъ, и одинъ изъ современниковъ Евфросиніи, игуменъ Даніилъ, оставившій намъ описаніе своего х_о_ж_д_е_н_і_я въ Іерусалимъ, говоритъ, что, одновременно съ нимъ, въ Іерусалимѣ было много кіевлянъ и новгородцевъ. Не мѣшаетъ замѣтить кстати, что, кромѣ хожденій въ Св. Землю для поклоненія Гробу Господню, другою постоянною цѣлью путешествій русскихъ людей, въ теченіи всего древнѣйшаго періода нашей исторіи — было хожденіе въ Грецію и на Аѳонъ, гдѣ русскіе иноки живали по нѣскольку лѣтъ сряду, изучая уставы монастырскіе, переводя и списывая книги. Греческіе монастыри — Студійскій (Ѳеодора Студита) и Іоанна Предтечи, служили постоянными мѣстопребываніями русскихъ странниковъ.
Изъ всего вышесказаннаго не трудно выяснить себѣ, до какой степени сильно было въ XI и XII вв. религіозное вліяніе на умы образованнѣйшихъ русскихъ людей, до какой степени главною, преобладающею цѣлью образованія и грамотности являлось желаніе утвердиться въ вѣрѣ и просвѣтить свой умъ съ точки зрѣнія исключительно-религіозной. Понятно, что свѣтская литература не могла широко развиться въ русскомъ обществѣ XI и XII вѣка, и что первыя попытки свѣтской литературы должны были неизбѣжно носить на себѣ отпечатокъ сильнаго вліянія религіознаго. Такъ однимъ изъ первыхъ памятниковъ нашей свѣтской литературы является «Поученіе Владиміра Мономаха», написанное имъ для дѣтей, по образцу поученій духовенства къ паствѣ. Такого рода поученія, подъ названіемъ «наставленій отца къ сыну» или «наказанія отца дѣтямъ», являлись всюду — и у насъ, и въ Греціи, и на западѣ — первыми попытками свѣтской литературы, когда она начинала отдѣляться отъ литературы духовной, но еще ничего не могла создать самостоятельнаго, а только подражала готовымъ образцамъ литературы духовной.
Въ одномъ изъ двухъ «И_з_б_о_р_н_и_к_о_в_ъ С_в_я_т_о_с_л_а_в_а» (1076 г.), составленномъ изъ статей религіозно-нравственнаго содержанія, даже и находимъ одинъ изъ образцовъ подобнаго рода поученій, а именно «Поученіе дѣтямъ Ксенофонта и Ѳеодоры», которое могло быть извѣстно Владиміру Мономаху и, слѣдовательно, до нѣкоторой степени, могло послужить образцомъ для внѣшней формы его поученія. Мономахъ, — одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, и притомъ проницательный и мудрый правитель, подавляющій своею величавою личностью всѣхъ современныхъ ему князей, — очевидно, не могъ не углубляться въ размышленія о томъ тягостномъ положеніи, въ которомъ находилось русское общество его времени. Его тревожила и мысль объ участи Русской земли, которую онъ такъ любилъ и за которую столько понесъ трудовъ, и, ближайшимъ образомъ, участь собственныхъ дѣтей его, которымъ суждено было, послѣ его смерти, править землею, терзаемою и сокрушаемою усобицами. При этомъ, Владиміръ Мономахъ не могъ не сознавать и того, какъ важно было его собственное значеніе для современниковъ и какъ много было имъ сдѣлано для дорогаго отечества, которое было столь многимъ обязано его мужеству и неутомимой дѣятельности. Стоитъ припомнить хотя бы только то, что сдѣлано было Владиміромъ на защиту Русской земли отъ нашествія дикихъ степныхъ ордъ: онъ самъ говоритъ о себѣ, что въ теченіе 13-ти лѣтъ ему пришлось совершить 83 большихъ похода, а меньшихъ онъ и не припомнитъ; что въ теченіе того же времени онъ заключилъ девятнадцать мировъ съ половецкими князьями, лучшихъ князей ихъ заполонилъ и потомъ выпустилъ изъ оковъ 103, да побилъ болѣе 200. Сознаніе необходимости такой неутомимой службы землѣ Русской побудило его написать поученіе дѣтямъ, въ которомъ онъ указываетъ имъ на себя, какъ на живой примѣръ, вовсе не изъ желанія похвалить себя, а потому, что онъ, какъ практическій русскій человѣкъ, не могъ не сознавать того, что примѣръ лучше всего способенъ подѣйствовать на дѣтей.
Самое поученіе Мономаха, которое мы приведемъ далѣе, живо рисуетъ намъ и понятія русскаго человѣка въ XII вѣкѣ, и образъ жизни князя. Особенно пріятно должно поражать каждаго, въ этомъ поученіи то, что Мономахъ, человѣкъ энергическій и неутомимо-дѣятельный, является такимъ же точно и въ своемъ благочестіи, которое, подобно Ѳеодосію Печерскому, онъ не ограничиваетъ однимъ внѣшнимъ исполненіемъ обрядовъ и молитвами, и ставитъ въ обязанность каждому вѣрующему д_ѣ_я_т_е_л_ь_н_о_с_т_ь х_р_и_с_т_і_а_н_с_к_у_ю — дѣла милосердія и любви. Точно также не могутъ не удивлять даже и въ настоящее время понятія Мономаха объ отношеніи къ ближнимъ и особенно къ тѣмъ, которые по общественному положенію своему поставлены ниже насъ. Въ заключеніе, прежде нежели перейдемъ къ изложенію самаго поученія Мономахова, отмѣтимъ одну черту древняго нашего княжескаго быта, которая можетъ въ настоящее время показаться не совсѣмъ понятною. Мономахъ, разсказывая дѣтямъ о своей неутомимой дѣятельности на защиту Русской земли отъ иноплеменниковъ, рядомъ съ походами на Половцевъ, указываетъ и на свои «ловы», т.-е. на охоты, какъ на рядъ замѣчательныхъ подвиговъ. Одинъ изъ нашихъ ученыхъ совершенно вѣрно замѣчаетъ по этому поводу, что «охота была тогда не праздною забавою, не тратою времени, а дѣйствительно спасительнымъ подвигомъ. Она поражала не мирныхъ, безвредныхъ животныхъ, а свирѣпыхъ, или же доставляла полезныхъ животныхъ человѣку. Можно представить, какимъ множествомъ дикихъ звѣрей наполнены были тогда непроходимые лѣса и обширныя стели русскія». Очевидно, что охота вызывалась необходимостью и что, потому самому, Мономахъ, много разъ подвергавшій опасности жизнь, совершая «ловы свои», могъ смѣло поставить ихъ въ число подвиговъ. Переходимъ къ самому поученію.
Въ самомъ началѣ его, Мономахъ объявляетъ о поводѣ, по которому написалъ свое поученіе. Едва только успѣли окончиться усобицы съ однимъ изъ князей русскихъ, едва удалось ему примирить князей на общемъ съѣздѣ, какъ на пути своемъ въ Ростовскую область, — по его собственному выраженію «н_а д_а_л_е_ч_и п_у_т_и, н_а с_а_н_я_х_ъ с_ѣ_д_я» (т. е. во время зимняго переѣзда по Волгѣ, въ 1099 г.), онъ уже былъ встрѣченъ посольствомъ отъ двоюродныхъ братьевъ своихъ, которые звали его вмѣстѣ съ собою воевать Ростиславичей Галицкихъ, отказывавшихся отъ исполненія общаго княжескаго приговора, положеннаго на съѣздѣ. Двоюродные братья велѣли сказать Мономаху: «ступай скорѣе къ намъ, прогонимъ Ростиславичей и волость у нихъ отнимемъ; если же не пойдешь съ нами, то мы сами по себѣ, а ты самъ по себѣ». Мономахъ велѣлъ передать имъ: «сердитесь, сколько хотите, не могу съ вами идти и преступить крестное цѣлованіе». Вѣсть о новыхъ раздорахъ сильно опечалила Мономаха: въ этой печали онъ разогнулъ Псалтирь и попалъ на мѣсто: «вскую печалуешься, душе? Вскую смущаеши мя?» Нельзя не обратить особеннаго вниманія на то весьма важное и любопытное обстоятельство, что у Владиміра Мономаха даже и «н_а д_а_л_е_ч_и п_у_т_и, н_а с_а_н_я_х_ъ» была при себѣ любимая книга благочестиваго древне-русскаго читателя, — что онъ въ книгѣ искалъ себѣ утѣшенія 1). Утѣшенный псалмомъ, Мономахъ рѣшился написать поученіе дѣтямъ, въ которомъ главною мыслью является стремленіе оградить ихъ отъ возможности совращенія съ пути истиннаго, для чего онъ и даетъ имъ рядъ нравственныхъ правилъ и наставленій о томъ, какъ именно слѣдуетъ жить христіанину, въ особенности увѣщевая полагаться на Бога, который не дастъ погибнуть человѣку, творящему волю Его.
1) Какъ Вл. Мономахъ заглядывалъ въ псалтирь, ища утѣшенія въ скорби, такъ другіе современники его заглядывали въ ту же книгу, загадывая о будущемъ; какъ тотъ, такъ и другой фактъ, съ разныхъ сторонъ, но одинаково свидѣтельствуютъ о большой распространенности этой книги и о важности ея значенія въ средѣ русскихъ грамотныхъ людей XI—XII вв.
«Дьяволъ, врагъ нашъ» — такъ пишетъ Мономахъ въ началѣ своего поученія — «побѣждается тремя добрыми дѣлами: покаяніемъ, слезами и милостынею. Бога ради, не лѣнитесь, дѣти мои, не забывайте этихъ трехъ дѣлъ; вѣдь они не тяжки: — это не то, что отшельничество, или чернечество, или голодъ, какъ терпятъ нѣкоторые добродѣтельные люди; а (между тѣмъ) такимъ малымъ дѣломъ можете вы получить милость Божію… Послушайте же меня и если не все (изъ того, чему я васъ поучаю) примете, то (хоть) половину. Просите Бога о прощеніи грѣховъ со слезами, и не только въ церкви дѣлайте это…, но и ложась спать. Не забывайте ни одну ночь класть земные поклоны, если вы здоровы; если же занеможете, то хоть трижды поклонитесь: этими ночными поклонами и пѣніемъ человѣкъ побѣждаетъ дьявола и получаетъ прощеніе дневныхъ грѣховъ своихь. Даже и на конѣ сидя, если ни съ кѣмъ не разговариваете, то, чѣмъ думать бездѣлицу, (лучше) повторяйте постоянно въ умѣ: „Господи помилуй!“ если ужъ другихъ молитвъ не знаете: — эта молитва лучше всѣхъ. Болѣе же всего не забывайте убогихъ, и сколько можете, по силѣ, кормите ихъ; больше другихъ подавайте сиротѣ, и сами оправдывайте вдовъ, не позвосильнымъ погубить человѣка. Ни праваго, ни виноватаго (ни сами) не убивайте, (ни другимъ) не приказывайте убивать. Въ разговорѣ — что бы вы ни говорили: доброе или злое — не клянитесь Богомъ, не креститесь: нѣтъ въ этомъ никакой нужды; когда придется вамъ цѣловать крестъ (по отношенію) къ братьѣ или къ другому кому, то цѣлуйте подумавши, можете ли сдержать клятву, и, поцѣловавши, остерегайтесь, какъ бы не погубить души своей, преступивъ (крестное цѣлованіе). Съ любовію принимайте благословеніе отъ епископовъ, поповъ и игумновъ, не устраняйтесь отъ нихъ, по силѣ любите и снабжайте ихъ: пусть молятся за насъ Богу. Пуще всего не имѣйте гордости въ сердцѣ и умѣ, но скажемъ такъ: — „всѣ мы смертны — нынѣ живы, а завтра во гробѣ; и все то, что Ты, Господи, далъ намъ, — не наше, а Твое, порученное намъ, на малое число дней“. Въ землю же ничего не зарывайте: это большой грѣхъ. Старыхъ чти, какъ отца; молодыхъ, какъ братьевъ. Въ домѣ своемъ не лѣнитесь; но за всѣмъ присматривайте сами; не надѣйтесь ни на тіуна 1), ни на отрока 2), чтобы гости не посмѣялись надъ домомъ вашимъ, ни надъ обѣдомъ. Вышедши на войну, также не лѣнитесь; не надѣйтесь на воеводъ; питью, ѣдѣ, спанью не предавайтесь въ излишествѣ; сторожей сами наряжайте; когда же всѣмъ распорядитесь, ложитесь и сами между воиновъ, но вставайте рано; оружія же съ себя не снимайте, — въ попыхахъ, не разглядѣвши (ночью), человѣкъ часто погибаетъ отъ лѣности своей. Остерегайтесь лжи и пьянства: въ этихъ порокахъ душа и тѣло погибаетъ. Если случится вамъ ѣхать куда, по своимъ дѣламъ, то не давайте отрокамъ обижать жителей, ни своихъ, ни чужихъ, чтобы послѣ васъ не проклинали. На дорогѣ или гдѣ остановитесь, напойте, накормите нищаго; особенно же чтите гостя, откуда бы онъ къ вамъ ни пришелъ, — простой-ли, знатный-ли человѣкъ, или посолъ; если не можете одарить его чѣмъ инымъ, то угостите хорошенько: — странствуя, они-то и разносятъ добрую или худую славу о человѣкѣ. Больного навѣстите и къ мертвому ступайте, потому что всѣ мы смертны; и никого не пропустите мимо себя, неопривѣтствовавши: всякому скажите доброе слово. Женъ своихъ любите, но не давайте имъ надъ собою власти. Что знаете добраго, того не забывайте, а чего еще не знаете, тому учитесь; не лѣнитесь ни на что доброе. Прежде всего (не лѣнитесь по, отношенію) къ церкви: солнце не должно застать васъ на постели. Такъ дѣлалъ блаженной памяти отецъ мой и всѣ добрые люди: за утренней воздавалъ хвалу Богу; когда потомъ видѣлъ восходящее солнце, прославлялъ Бога съ радостью (п_р_и_в_е_д_е_н_ы с_л_о_в_а м_о_л_и_т_в_ы). (Затѣмъ слѣдуетъ) сѣсть думать (т.-е. совѣщаться) съ дружиною, или людей разбирать судомъ, или на ловъ отправиться, или (по другому дѣлу) ѣхать, или лечь спать: спать въ полдень присуждено отъ Бога — ибо искони почиваетъ въ это время и звѣрь, и птица, и человѣкъ. А вотъ теперь разскажу вамъ, дѣти мои, о трудахъ моихъ, и о моихъ походахъ и ловахъ, въ теченіи 13 лѣтъ.
1) Тіунъ — управитель.
2) Отрокъ — слуга.
(З_а_т_ѣ_м_ъ, п_е_р_е_ч_и_с_л_я_ю_т_с_я п_о_х_о_д_ы и о_п_а_с_н_о_с_т_и, к_о_т_о_р_ы_м_ъ п_о_д_в_е_р_г_а_л_с_я В_л_а_д_и_м_і_р_ъ М_о_н_о_м_а_х_ъ в_о в_р_е_м_я с_в_о_и_х_ъ о_х_о_т_ъ). И Богъ сохранилъ меня невредимаго, хотя я и съ коня много разъ падалъ, и голову себѣ разбилъ дважды, и руки, и ноги не разъ повреждалъ себѣ, не щадя ни головы своей, ни жизни. И то, что слѣдовало бы сдѣлать моему отроку, то дѣлалъ я самъ, и на войнѣ, и во время лововъ, ночью и днемъ, на зноѣ и холоду, не давая себѣ покоя, не обращая вниманія ни на посадниковъ, ни на биричей 1), дѣлалъ самъ все необходимое, соблюдая порядокъ и въ дому своемъ, и ловчими завѣдывая самъ, и конюхами, и о соколахъ, и о ястребахъ (прилагая заботу). Въ то же время и простаго человѣка, и убогой вдовицы не давалъ въ обиду сильнымъ, и за церковнымъ порядкомъ и службами успѣвалъ присматривать самъ. Не подумайте, дѣти мои, или другой кто, читая это, чтобы я хвалилъ себя или выставлялъ смѣлость свою; я только восхваляю Бога и прославляю Его милость за то, что Онъ меня, грѣшнаго и худаго, въ теченіи столькихъ лѣтъ уберегъ отъ смерти, и сотворилъ меня не лѣнивымъ, и годнымъ на всѣ человѣческія дѣла. Желаю только того, чтобы, прочитавши эту грамотку, вы бы устремились на всѣ добрыя дѣла, прославляя Бога и святыхъ Его. Не бойтесь, дѣти, смерти, ни на войнѣ, ни отъ звѣря, но, съ помощіею Божіею, смѣло дѣлайте свое дѣло, какъ надлежитъ мужамъ… Коли не будетъ на то воли Божіей, то, подобно мнѣ, никто изъ васъ не можетъ погибнуть ни отъ воды, ни на войнѣ, ни отъ звѣря; а ежели отъ Бога будетъ (назначена вамъ) смерть, то ни отецъ, ни мать, ни братья не въ силахъ будутъ васъ отъ нея избавить».
1) Биричь — лицо, облеченное властью исполнительной; иногда биричи бывали глашатаями.
Выше мы уже упомянули о замѣчательной начитанности Мономаха, которая видна изъ его «Поученія», хотя мы и выпустили изъ этого памятника всѣ общія мѣста, заимствованныя имъ изъ книгъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви, служащія доказательствомъ этой начитанности, и оставили только самую сущность, наиболѣе рисующую намъ понятія одного изъ русскихъ дѣятелей XII вѣка. Не слѣдуетъ, однакоже, разумѣть подъ этой начитанностью — начитанность въ новѣйшемъ значеніи этого слова. Книгъ было не много въ обращеніи; книги были дороги; навыкъ къ быстрому чтенію не могъ быть значителенъ, да при-томъ же и досугъ читателя-мірянина (хотя бы и князя) былъ далеко не настолько обширенъ и обезпеченъ, чтобы онъ могъ предаваться чтенію разнообразному и много-стороннему. «Ч_и_т_а_т_ь к_н_и_г_у» — по понятіямъ нашихъ предковъ XI—XII вѣка и даже гораздо болѣе поздняго времени — значило то же, что «и_з_у_ч_а_т_ь» книгу; п_р_о_ч_е_с_т_ь к_н_и_г_у — значило перечесть ее много и много разъ, съ начала до конца и съ конца до начала, до полной возможности и_з_у_с_т_н_а_г_о, н_а п_а_м_я_т_ь, цитированія отдѣльныхъ мѣстъ и цѣлыхъ страницъ. Выборъ и кругъ чтенія даже и наиболѣе образованныхъ, наиболѣе состоятельныхъ людей былъ чрезвычайно ограниченъ: не слѣдуетъ забывать, что и самое Св. Писаніе въ ту пору еще не было доступно русскому читателю въ полномъ своемъ составѣ, ибо многія изъ книгъ Ветхаго Завѣта еще не были переведены съ греческаго на русскій языкъ и не были собраны въ общіе своды. Но за то въ числѣ книгъ, занесенныхъ къ намъ очень рано изъ Византіи, были тѣ и_з_б_о_р_н_и_к_и, о которыхъ мы уже упоминали выше (см. стр. 25—26), и которые, рядомъ съ поученіями и толкованіями Св. Писанія, заключали въ себѣ порядочный запасъ иного, чисто литературнаго и отчасти даже научнаго матеріала — запасъ, болѣе чѣмъ удовлетворительный, если принять въ соображеніе потребности и понятія современнаго русскаго читателя. Такъ напр. въ Ш_е_с_т_о_д_н_е_в_ѣ Іоанна, экзарха болгарскаго, русскій читатель находилъ мѣста, заимствованныя изъ греческихъ философовъ Платона и Аристотеля, указанія на Ѳалеса, Парменида и Демокрита, а при объясненіи Моисеева сказанія о сотвореніи міра — подробныя разсужденія о четырехъ основныхъ стихіяхъ міра (согласно современнымъ научнымъ воззрѣніямъ). Въ «З_л_а_т_о_й М_а_т_и_ц_ѣ» — тотъ-же читатель встрѣчалъ статью о кругахъ земномъ, лунномъ и солнечномъ, о звѣздахъ и планетахъ; въ ,,Изборникѣ Святослава" (1073 г.) — рядомъ съ поученіемъ о з_л_о_й ж_е_н_ѣ — сказаніе Епифанія о 12 камняхъ въ одеждѣ первосвященника, діалектическіе и реторическіе отрывки и краткій лѣтописецъ событій отъ временъ императора Августа до временъ Константина. Но болѣе всего живыми и полезными для образованія русскихъ читателей являлись въ числѣ изборниковъ такъ называемыя «П_ч_е_л_ы». «Пчелы» представляли собою нѣчто въ родѣ а_н_т_о_л_о_г_і_й, и состояли изъ чрезвычайно пестрой смѣси преимущественно краткихъ изреченій, заимствованныхъ изъ Св. Писанія, изъ Отцевъ Церкви и изъ древнихъ классическихъ писателей. Изреченія эти касались самыхъ разнообразныхъ предметовъ нравственныхъ, и въ смыслѣ отвлеченной философской морали, и въ примѣненіи къ различнымъ случаямъ обыденной жизни. Изреченія въ «Пчелахъ» собирались въ отдѣльныя главы, по предметамъ, напр. такъ: — ,,о мудрости", «о чистотѣ и цѣломудріи», «о мужествѣ и крѣпости», «о дружбѣ и братолюбіи», «о власти и княженіи» и т. д. Изъ книгъ Св. Писанія, конечно, наиболѣе удобными для подобнаго рода выписокъ оказывались такія книги какъ «Притчи», «Экклезіастъ», книга Премудрости сына Сирахова; а изъ древнихъ писателей составители «Пчелъ» почерпали широко и обильно, безъ особаго плана и соображеній, одинаково охотно заимствуя изреченія изъ Эврипида и Плутарха, изъ Катона и Платона, изъ Эпикура и Менандра. Принимая въ соображеніе именно эту отрывочность и разнообразіе содержанія П_ч_е_л_ъ, которыя являлись единственнымъ образцомъ чтеній назидательнаго, и въ то-же время занимательнаго и легкаго, мы понимаемъ, почему П_ч_е_л_ы такъ нравились нашимъ читателямъ XI и XII вѣка, и почему распространялись въ такомъ множествѣ списковъ. Мало того: переписчики вѣроятно уже очень рано стали вносить въ основную редакцію П_ч_е_л_ъ плоды русской народной мудрости — пословицы и притчи — точно также, какъ и наоборотъ: всѣ изреченія, входившія въ составъ П_ч_е_л_ъ, сами легко обращались въ пословицы. Отъ такого рода работы былъ не труденъ переходъ и къ труду болѣе самостоятельному — къ подражанію пріемамъ «Пчелы», къ воспроизведеніямъ въ томъ-же легкомъ и назидательномъ родѣ, къ примѣненію книжной морали, сообразно съ обстоятельствами. И дѣйствительно, отъ XII вѣка дошло къ намъ именно такое произведеніе: «Посланіе Даніила Заточника» 1), почти сплошь составленное изъ выписокъ, заимствованныхъ большею частью изъ «Притчей Соломоновыхъ» и книги «Премудрости Іисуса сына Сирахова». Выписки эти очень ловко сопоставлены въ «Посланіи Даніила Заточника» съ русскими пословицами, съ намеками на современныя историческія обстоятельства и на событія, имѣющія интересъ авто-біографическій.
1) З_а_т_о_ч_н_и_к_ъ — т. е. з_а_т_о_ч_е_н_н_ы_й, заключенный, посаженный въ з_а_т_о_ч_е_н_і_е.
Изъ самаго произведенія нѣтъ возможности догадаться о томъ, кто былъ Даніилъ, ни даже о томъ, къ кому именно обращается онъ въ своемъ умилостивительномъ посланіи. Изъ этого посланія видно только то, что какой-то Даніилъ, человѣкъ, повидимому, еще не старый, неизвѣстно какого происхожденія и званія, стоялъ сначала въ близкихъ отношеніяхъ къ одному изъ современныхъ ему князей, но потомъ прогнѣвалъ князя, и былъ, по его велѣнію, заточенъ на озерѣ Лаче (въ нынѣшней Олонецкой губерніи). Даніилъ Заточникъ нигдѣ въ посланіи своемъ не проговаривается о томъ, за какую именно вину онъ былъ сосланъ княземъ въ заточенье; однако-же, по рѣзкимъ выходкамъ его противъ женщинъ и приближенныхъ къ князю бояръ, можно предполагать, что онъ приписывалъ свое несчастіе ихъ наговорамъ. Ученые наши думаютъ, что князь, упоминаемый въ посланіи Даніила, есть или Юрій Владиміровичъ Долгорукій, сынъ Мономаха, или Ярославъ Владиміровичъ, правнукъ Мономаха. Видно, что посланіе Даніила очень понравилось русскимъ грамотнымъ людямъ кудреватостью своего слога, и, въ послѣдующіе вѣка, много разъ переписывалось, передѣлывалось, или даже примѣнялось къ подобнымъ же обстоятельствамъ.
«Вострубимъ, братія, какъ бы въ златокованныя трубы, въ разумъ ума своего, и начнемъ бить въ серебряные органы, и возвѣемъ мудрости свои» — такъ начинаетъ свое «Посланіе» Даніилъ Заточникъ. «Не воззри на меня, князь-господинъ», продолжаетъ онъ, обращаясь къ князю, «какъ волкъ на ягненка»; воззри на меня, господинъ мой, какъ мать на младенца. Взгляни, господинъ, на небесныхъ птицъ, которыя не орутъ, не сѣютъ, и въ житницы де собираютъ, а надѣются на милость Божію: такъ точно и мы, князь-господинъ, желаемъ твоей милости; потому, господинъ, кому — Боголюбово, а мнѣ — горе лютое; кому — Лачъ-озеро, а мнѣ — сидящему при немъ — плачъ горькій; кому — Новгородъ а у меня — углы опали (т. е. у жилья). Потому-то и взываю къ тебѣ, князь-господинъ, одолѣваемый нищетою, помилуй меня, не дай мнѣ всплакаться, какъ Адаму въ раю. Избавь меня отъ этой нищеты, какъ серну отъ тенетъ, какъ птицу отъ западни, какъ утку отъ когтей носящагося надъ ней ястреба, какъ овцу отъ пасти львиной. Я, князь-господинъ, словно дерево придорожное: многіе порубаютъ его и мечутъ въ огонь; такъ точно и меня всѣ обижаютъ, такъ какъ я огражденъ страхомъ твоего гнѣва. Въ печали человѣка утѣшить не тоже-ли, что жаждущаго, въ знойный день, напоить студеною водою? И птица вѣдь радуется веснѣ, какъ младенецъ матери, — такъ и я, князь, радуюсь твоей милости; ибо какъ весна украшаетъ землю цвѣтами, такъ и ты, князь-господинъ, оживляешь всѣхъ своею милостью, и сиротъ, и вдовъ, угнетаемыхъ вельможами. Но въ то же время, какъ ты будешь наслаждаться многими кушаньями, то вспомни, что я ѣмъ одинъ сухой хлѣбъ, а когда станешь пить сладкое питье, то вспомни, что я принужденъ пить одну теплую воду, въ которую вѣтромъ нанесло всякій соръ. Когда же ляжешь на мягкія перины, подъ соболье одѣяло, то вспомни, что я здѣсь лежу подъ однимъ платомъ, и умираю отъ стужи, и что дождевыя капли, словно стрѣлы, пронизываютъ меня (холодомъ) до самаго сердца. Князь щедрый, какъ рѣка съ пологими берегами, текущая сквозь дубравы, и напояющая не только людей, но и скотъ, и всѣхъ звѣрей; а князь скупой не тоже-ли, что рѣка, текущая между высокими каменистыми берегами: нельзя никому ни пить, ни коня поить".
За этими напоминаніями князю о бѣдственномъ своемъ положеніи, въ «Посланіи» Даніила, слѣдуетъ цѣлый рядъ сравненій б_о_г_а_т_а_г_о н_е_м_ы_с_л_е_н_н_а_г_о ч_е_л_о_в_ѣ_к_а с_ъ у_б_о_г_и_м_ъ, н_о м_у_д_р_ы_м_ъ, которому конечно Даніилъ и отдаетъ предпочтеніе. За тѣмъ Даніилъ очень ловко и уклончиво старается на бояръ свалить вину въ томъ злѣ, которое иногда князья дѣлаютъ людямъ, и тонко намекаетъ на то, что князю не слѣдуетъ слушаться ни ихъ, ни жены своей. «Не море топитъ корабли», — замѣчаетъ по этому поводу Даніилъ, — «но вѣтры; и не огонь раскаляетъ желѣзо, а вздыманіе мѣховъ: такъ точно и князь не самъ впадаетъ во многія дурныя дѣла, а думцы (совѣтники) его въ нихъ вводятъ. Вѣдь съ добрымъ-то думцею князь додумается до высокаго престола, а съ злымъ думцею можетъ даже и малаго престола лишиться».
Посланіе заканчивается слѣдующимъ обращеніемъ къ князю, которому Даніилъ старается поставить на видъ свои достоинства: «Господинъ мой! Не взирай на мою внѣшность, а внутрь меня загляни: я скуденъ одѣяніемъ, но обиленъ разумомъ; юнъ лѣтами, но старъ смысломъ; мысль моя подобна орлу, парящему въ воздухѣ. Поставь сосуды скудельничьи подъ влагу, каплящую съ языка моего, дабы уста мои надѣлили тебя словами, болѣе сладками, нежели самый медъ… Я не ходилъ за море, не учился у философовъ, но уподоблялся пчелѣ, припадающей къ различнымъ цвѣтамъ и собирающей съ нихъ медвяный сокъ; такъ точно и я, изъ многихъ книгъ собирая разумъ и словесную сладость, собралъ (все это), какъ воду морскую въ мѣхъ (собираютъ), и не отъ своего разума (все это написалъ), а по Божьему промыслу.».
Вліяніе, оказанное П_ч_е_л_а_м_и на автора П_о_с_л_а_н_і_я, едва-ли можетъ быть отрицаемо. А что подобныя вліянія были возможны — въ этомъ насъ убѣждаетъ то, что въ одномъ изъ сборниковъ (составленныхъ до 1200 года), современныхъ П_о_с_л_а_н_і_ю, находимъ между прочимъ часть слова «о богатомъ и убогомъ», въ которой, очевидно, въ описаніе обстановки и быта богача внесены современныя русскія черты XII в.
…."Богато жилъ онъ на землѣ" — разсказывается въ этомъ словѣ о богачѣ — «ходилъ въ багрецѣ и въ пàволокахъ 1), кони его были тучны; ѣздилъ онъ на иноходцахъ… въ сѣдлахъ позлащенныхъ; а впереди его шли многіе рабы, съ золотыми гривнами на шеѣ, а другіе — позади, въ монистахъ и обручахъ — и шествовалъ онъ въ великой славѣ. И за обѣдомъ его велика была служба: сосуды, окованные серебромъ и золотомъ, кушаній много, и различныхъ — тетери и гуси, журавли и рябчики, голуби и куры, зайцы и олени, вепри и дичина всякая. И многіе работали и трудились въ поту лица надъ приготовленіемъ кушаній… И многіе носили блюда на перстахъ, а другіе (стоя за столомъ) съ боязнью обмахивали сидящихъ… А на столѣ стояли и чаши великія серебрянныя позолоченныя, и кубки, и котлы, и питія многія, медъ и квасъ, вино, медъ чистый и пряный… А питія обносились подъ звуки гусель и свирѣлей. И веселія за столомъ было у него много: кругомъ него ласкатели и празднословцы, и смѣхословцы — плясанія и мерзости, вопли и пѣсни. А вотъ ужъ и постель ему постлана; легъ онъ на перины п_à_в_о_л_о_ч_и_т_ы_я 2), и не можетъ уснуть — а друзья-то его и ноги ему гладятъ, и по лядвіямъ его похлопываютъ, и плечи ему чешутъ; одни на гудкахъ передъ нимъ играютъ, а другіе сказки ему сказываютъ»…
1) П_à_в_о_л_о_к_и — дорогія матеріи. 2) Сшитыя изъ пàволокъ.
Живыя черты русской современности ярко выступаютъ здѣсь на общемъ фонѣ картины, заимствованной, можетъ быть, изъ византійскаго быта, и указываютъ на то, что въ концѣ XI и началѣ XII вѣка уже начала у насъ проявляться та живая, непосредственная связь между отвлеченнымъ содержаніемъ книги и дѣйствительностью, — связь, на которую у всѣхъ народовъ историческихъ опираются зачатки свѣтской, м_і_р_с_к_о_й литературы.

V.
правитьСвѣтская литература въ II вѣкѣ. — Слово о полку Игоревѣ, какъ памятникъ дружиннаго эпоса.
правитьБольшое преобладаніе религіознаго направленія въ русской литературѣ XI и XII столѣтія не помѣшало появленію въ началѣ XII вѣка, весьма замѣчательныхъ попытокъ созданія свѣтской литературы.
Хотя попытки эти основываются еще на подражаніи тѣмъ литературнымъ формамъ, которыя были заимствованы нашими духовными писателями изъ Византіи; хотя и въ самомъ духѣ одного изъ этихъ памятниковъ (Поученіе Вл. Мономаха) замѣтно сильное и непосредственное вліяніе духовнон лите-ратуры, однако же для насъ уже очень важенъ тотъ фактъ, что и Мономахъ, авторъ «Поученія», и Даніилъ Заточникъ, авторъ извѣстнаго «Слова», оба были м_і_р_я_н_е, не принадлежавшіе къ духовному сословію. Изъ этого видно, что въ обществѣ (т.-е. въ верхнихъ грамотныхъ слояхъ его) пробуждалось уже сознаніе частныхъ потребностей отдѣльной личности и цѣлаго сословія, мало имѣющее общаго съ нѣсколько-отвлеченными стремленіями литературы духовной. Духовенство, въ литературѣ, болѣе занималось общими сторонами человѣческими, или же исключительно-религіозными, догматическими вопросами; оно отвергало все земное и, увлекаясь идеальными стремленіями къ христіанскому совершенствованію, мало способно было вникать въ потребности современнаго русскаго общества. А между тѣмъ, въ концѣ XI и началѣ XII вѣка жизнь общественная стала уже очень громко заявлять о своихъ потребностяхъ, стала открыто выказывать свои несовершенства, — и въ двухъ первыхъ попыткахъ нашей свѣтской литературы, въ «Поученіи Мономаха» и въ «Словѣ» Заточника, мы уже сталкиваемся съ живымъ, опредѣленнымъ и практическимъ пониманіемъ потребностей современнаго общества, съ вѣрнымъ опредѣленіемъ его недостатковъ и даже съ весьма ѣдкимъ порицаніемъ ихъ. Но какъ же складывалась эта современная жизнь? Какіе интересы преобладали въ ней? Какіе пороки и достоинства современнаго русскаго человѣка особенно должны были сосредоточивать на себѣ вниманіе людей развитыхъ и грамотныхъ, стоявшихъ во главѣ общества?
Въ этомъ періодѣ нашей исторической жизни, которому такъ мѣтко придано было наименованіе удѣльно-вѣчеваго, мы видимъ два главныхъ элемента общественной жизни: съ одной стороны — князя и окружающую его дружину, съ другой — массу народу. Значеніе обоихъ этихъ элементовъ, конечно, не можетъ быть ни въ какомъ случаѣ названо равносильнымъ, равнозначущимъ. Масса народа, — неразвитая, на половину еще преданная язычеству, погруженная, какъ и всегда, въ обыденные интересы и заботы своего незатѣйливаго существованія, сильно страдавшая отъ княжескихъ междоусобій и неурядицъ — была, конечно, мало способна относиться сознательно къ своей жизни или задаваться какими бы то ни было идеальными стремленіями. Масса эта была исключительно предана заботамъ объ охранѣ своего простаго, трудоваго быта отъ опасностей, грозившихъ ему отовсюду: въ минуты отдыха и досуга фантазія въ средѣ ея не могла подняться выше общаго уровня сказокъ, завѣщанныхъ ей стародавними, изконными преданіями, да разныхъ пѣсенъ о богатыряхъ, въ которыхъ съ восторгомъ и почтеніемъ говорилось о чудовищныхъ проявленіяхъ силы физической, о дальнихъ странствованіяхъ богатырей и ихъ нескончаемой борьбѣ съ иноплеменниками. Не богатъ былъ запасъ поэтическихъ образовъ въ этой массѣ, и тотъ вѣкъ насилія, вѣкъ преобладанія силъ матеріальныхъ надъ нравственными, долженъ былъ и въ пѣсняхъ массы народной выражаться стремленіемъ только къ двумъ идеаламъ: — проявленію громадной силы и охраненію ограниченнаго благосостоянія, заключавшагося въ удовлетвореніи немногихъ и грубыхъ потребностей. Не таково было нравственное и матеріальное положеніе дружины въ тотъ-же удѣльно-вѣчевой періодъ. Ей жилось весело и привольно при князьяхъ, которые ее кормили и одѣвали, дѣлили съ нею свое имущество и власть, добычу и славу воинскую. «Дружина» — говоритъ г. Соловьевъ — «не усаживается въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, и сохраняетъ характеръ военнаго братства. Князь — старшій товарищъ (среди дружины), старшій братъ, а не повелитель; онъ не таится отъ дружины, и дружина знаетъ всякую его думу; онъ ничего не щадитъ для дружины, — ни ѣды, ни питья; ничего не копитъ себѣ, — все раздѣляетъ дружинѣ; а не хорошъ князь, думаетъ свою думу врозь отъ дружины, скупъ князь или завелъ любимца, — дружинники покидаютъ его: имъ легко это дѣлать; они не связаны съ областью, гдѣ правитъ покинутый ими князь: они — русскіе, а Русская земля велика и князей въ ней много; каждый изъ нихъ съ радостью приметъ добраго воина».
Свободная въ выборѣ князей, въ переходѣ отъ одного князя къ другому, дружина и въ войнѣ, и въ мирѣ являлась для князя необходимой посредницей въ его отношеніяхъ къ массѣ народа, а съ другой стороны она была близка и къ духовенству — этому образованнѣйшему изъ сословій нашей древней Руси, которое такъ часто набирало «воиновъ христовыхъ» изъ дружинной среды. Такое, во многихъ отношеніяхъ выгодное, положеніе дружины дѣлало ее передовымъ и важнѣйшимъ сословіемъ въ средѣ древне-русскаго общества, и давало ей полную возможность относиться сознательно къ явленіямъ совершавшейся передъ ея глазами жизни. Можно смѣло утверждать, что дружина была болѣе способна понимать и оцѣнивать эту дѣйствительность, нежели даже само духовенство, болѣе дружины образованное, но за то и болѣе способное увлекаться идеалами, чуждыми русской жизни и русской дѣйствительности, выработанными и воспитанными на почвѣ византійской. Лучшіе люди дружиннаго слоя, напротивъ того, искали себѣ идеаловъ въ русской дѣйствительности и, конечно, должны были находить ихъ не въ массѣ народа, котораго съ собой не ровняли, не въ духовенствѣ, которое ставили выше обыденной дѣйствительности, по его назначенію, а въ своей же, дружинной и княжеской средѣ. Любопытнымъ образчикомъ подобныхъ идеаловъ дружины служитъ относящаяся къ началу XIII вѣка приписка, помѣщенная въ Софійскомъ временникѣ, и изъ него переписанная въ Воскресенскую лѣтопись:
«Молю васъ, стадо Христово», — пишетъ авторъ этой замѣчательной приписки — «разумно преклоните слухъ вашъ (и услышите), каковы были древніе князи и мужи ихъ (т. е. дружинники), и какъ обороняли Русскую землю и иныя страны покоряли. Тѣ-то князья не собирали много имѣнія, не возлагали (лишнихъ, чрезмѣрныхъ) виръ и продажъ на людей; но только правую виру собирали, и ту отдавали дружинѣ на оружіе, и дружина ихъ кормилась, воюя иныя страны, сражаясь и восклицая: „Братья, потягнемъ за своего князя и за Русскую землю“. Не говорила (дружина): „мало мнѣ, князь, 200 гривенъ“. Не возлагали (дружинники) на своихъ женъ золотыхъ обручей, но жены ихъ ходили въ серебрѣ. Такъ-то и расплодили Русскую землю. Послѣ же за нашу непокорность Богъ навелъ на насъ поганыхъ, и забрали они у насъ и скотъ, и села, и имѣнія наши, а мы все не можемъ отстать отъ своихъ дурныхъ привычекъ».
Несомнѣнно, что въ то самое время, когда духовенство и монахи создавали свою монастырскую литературу и въ ней прославляли «воиновъ христовыхъ», принявшихъ на себя тяжкій трудъ борьбы съ міромъ, среди поста, лишеній и молитвъ — въ то же время, пѣвцы, вышедшіе изъ дружинной среды, при дворахъ князей воспѣвали чисто-мірскіе подвиги князей и дружинниковъ, восхваляя удаль и молодечество, и впервые рѣшались энергически и съ полнымъ сознаніемъ высказывать дѣятельную любовь къ родинѣ, къ Русской землѣ, или сокрушаться о постигающихъ ее бѣдствіяхъ и страданіяхъ. И между тѣмъ какъ монахъ-лѣтописецъ, передавая темную и кровавую повѣсть княжескихъ усобицъ, искалъ объясненія имъ только въ томъ вліяніи, которое исконный врагъ человѣка, дьяволъ, оказывалъ на взаимныя отношенія князей — пѣвцы дружинные болѣе правильно старались пояснять тѣ-же усобицы недостаткомъ любви къ родинѣ, предпочтеніемъ личныхъ интересовъ общимъ интересамъ всей земли Русской и окружали блестящимъ ореоломъ имена всѣхъ князей, проливавшихъ кровь только «п_о_г_а_н_с_к_у_ю», не во вредъ, а во спасеніе Русской землѣ, во избавленіе ея отъ иноплеменниковъ.
Въ высшей степени важнымъ памятникомъ этого сознательнаго и правильнаго отношенія дружины къ русской дѣйствительности XII вѣка осталось намъ извѣстное «Слово о полку (т. е. о походѣ) Игоревѣ» — одна изъ многихъ пѣсенъ, сложенныхъ дружинными пѣвцами въ честь князей, представлявшихъ собою высшее олицетвореніе всѣхъ лучшихъ стремленій дружины. Въ этомъ памятникѣ воспѣтъ небольшой и при-томъ несчастливо-окончившійся походъ Игоря, князя сѣверскаго, противъ Половцевъ. Восторженное описаніе этого незначительнаго военнаго предпріятія можетъ быть доступно только тому, кто понимаетъ значеніе Половцевъ въ нашей до-татарской Руси, а потому мы и считаемъ долгомъ своимъ представить здѣсь читателямъ краткій обзоръ главнѣйшихъ движеній Русской земли противъ Половцевъ.
Лѣтописи сохранили намъ воспоминаніе о множествѣ большихъ и малыхъ кочевыхъ народовъ, которые, поочередно вступая въ борьбу съ Русью и разбиваясь о нее, исчезали безслѣдно. Обширныя луговыя степи нашего юга давали пріютъ хищнымъ ордамъ этихъ кочевниковъ, которымъ привольно жилось въ нихъ, среди безчисленныхъ табуновъ и стадъ своихъ. Отсюда-то, пользуясь усобицами нашихъ разрозненныхъ областей, стремительно налетали кочевники на беззащитные города и села, грабили все, что ни попадалось имъ на пути, уводили въ плѣнъ людей, истребляли огнемъ и мечемъ то, чего нельзя было захватить съ собою. Во второй половинѣ XI вѣка, въ степяхъ нашихъ являются Половцы, на мѣсто прежнихъ Печенѣговъ и Торковъ. Тяжелою грозовою тучею тяготѣютъ ихъ нестройныя, но страшныя орды надъ приднѣпровскою Русью въ теченіе почти двухъ вѣковъ, вплоть до татарскаго погрома, который мы въ состояніи были перенести, можетъ быть, только потому, что уже долгимъ и горькимъ опытомъ были пріучены къ нескончаемой борьбѣ съ иноплеменниками. Вотъ какъ описываетъ лѣтопись одинъ изъ первыхъ половецкихъ набѣговъ (въ 1093 году):
«Лукавые измаильтяне 1) пожигали села и гумна, и многія церкви запалили огнемъ. (И вотъ уже) однихъ ведутъ въ плѣнъ, другіе трепещутъ, видя убиваемыхъ близкихъ, третьи умираютъ отъ голода и водной жажды; а тѣхъ (вонъ) вяжутъ и пятами пихаютъ и на землю валятъ… Города всѣ опустѣли, села опустѣли; перейдя поля, гдѣ прежде паслись стада коней, овецъ и воловъ, видимъ все тоще, видимъ и нивы, поросшія лѣсомъ и обратившіяся въ жилище звѣрей… Много воевали Половцы и возвратились къ Торчскому, и люди въ городѣ стали изнемогать отъ голода и передались ратнымъ; Половцы же, взявъ городъ, запалили его огнемъ, подѣлили людей и повели ихъ въ вежи свои къ сердоболямъ и сродникамъ своимъ. Много тутъ было христіанъ страждущихъ, опечаленныхъ, мучимыхъ, костенѣющихъ отъ холода, исхудалыхъ и почернѣвшихъ отъ голода и жажды, и несчастій: по незнакомой имъ сторонѣ, съ распаленнымъ языкомъ, шли они нагіе и босые, и ноги ихъ еще исколоты были терніемъ. Со слезами отвѣчали они другъ другу, говоря: „я родомъ изъ такого-то города“; а другіе: „я изъ такой-то деревни“; и такъ спрашиваютъ другъ друга со слезами, разсказывая, кто откуда происходитъ, и вздыхая, и очи возводя на небо къ Всевышнему, которому извѣстно все тайное».
1) И_з_м_а_и_л_ь_т_я_н_а_м_и и А_г_а_р_я_н_а_м_и лѣтописцы наши называютъ Половцевъ; впослѣдствіи тѣ-же названія переносятъ на Татаръ.
И дѣйствительно, первые набѣги Половцевъ были рядомъ оглушительныхъ ударовъ, рядомъ побѣдъ надъ русскими князьями, которыхъ и самая бѣда не могла примирить для дружнаго отпора кочевникамъ. Только уже въ 1095 году, въ первый разъ, русскіе князья (Святополкъ и Владиміръ Мономахъ) сами пускаются въ походъ противъ Половцевъ, достигаютъ ихъ вежей, жгутъ ихъ и угоняютъ стада половецкія. Не даромъ лѣтописецъ съ признательностью вспоминаетъ о трудахъ Мономаха на защиту Русской земли отъ иноплеменниковъ. «Владиміръ самъ собою постоялъ на Дону» — говоритъ лѣтописецъ — «и много поту утеръ за землю Русскую». Вслѣдъ за этимъ походомъ 1065 года, мы видимъ уже цѣлый рядъ другихъ, болѣе или менѣе важныхъ, движеній Русской земли противъ Половцевъ. Изъ нихъ особенно замѣчателенъ, по историческому значенію своему, походъ Святослава Всеволодовича, въ которомъ, по свидѣтельству лѣтописи, участвовали всѣ к_н_я_з_ь_я р_у_с_с_к_і_е и взято было въ плѣнъ 7,000 Половцевъ (между прочимъ 417 князей). Вообще, въ XII вѣкѣ, походы русскихъ князей противъ Половцевъ дѣлаются уже вполнѣ народными движеніями, которыми постоянно руководятъ два главныхъ стремленія: сознаніе необходимости борьбы противъ общаго врага, и съ другой стороны — жажда славы, молодечество, удаль. Оба эти стремленія ясно выражаются и въ лѣтописныхъ разсказахъ о походахъ князей на Половцевъ, и въ самомъ «Словѣ о полку Игоревѣ». Вотъ какъ, напримѣръ, разсказывается къ Ипатьевской лѣтописи о сборахъ Мстислава Изяславича съ братьей въ походъ на Половцевъ:
«Вложилъ Богъ въ сердце Мстиславу Изяславичу мысль благую о Русской землѣ, такъ какъ онъ хотѣлъ ей добра всѣмъ сердцемъ; и созвалъ онъ братьевъ своихъ и началъ съ ними совѣщаться, и сказалъ такъ: „братья! пожалѣйте о Русской землѣ и о своей отчинѣ и дѣдинѣ; вѣдь (Половцы-то) всякое лѣто увозятъ христіанъ въ свои вежи, а намъ клятвы даютъ, и всегда ихъ переступаютъ… А хорошо бы было намъ, братья, положась на Божію помощь и на молитву Святой Богородицы, поискать п_у_т_е_й о_т_ц_о_в_с_к_и_х_ъ и д_ѣ_д_о_в_с_к_и_х_ъ (въ землю Половецкую) и с_е_б_ѣ ч_е_с_т_и“. И угодна была рѣчь его прежде Богу, и всѣмъ братьямъ, и дружинѣ ихъ. И сказали ему всѣ братья: „Богъ да поможетъ тебѣ, братъ, такъ какъ Онъ вложилъ тебѣ такую мысль въ сердце; а намъ дай Богъ сложить головы свои за христіанъ и за Русскую землю и быть причтенными къ лику мучениковъ“.
При такомъ взглядѣ* на Половцевъ, какъ на общаго врага всей Руси, а на походы противъ нихъ, какъ на дѣло похвальное и достославное, должно, конечно, предположить, что каждый подобный, частный или общій походъ становился темою, на основаніи которой слагались дружинными пѣвцами пѣсни въ честь князей, совершавшихъ эти походы; чѣмъ удалѣе былъ походъ, чѣмъ труднѣе участвовавшимъ въ походѣ князьямъ „добыть себѣ честь и хвалу“ — тѣмъ болѣе было повода для пѣвцовъ воспѣть этотъ походъ и передать его памяти потомства. Вотъ почему и небольшой, неудачно, несчастливо-окончившійся походъ Игоря Сѣверскаго былъ также воспѣтъ, какъ и многіе другіе, подобные же подвиги ратные, и можетъ быть даже заслужилъ преимущественнаго вниманія со стороны пѣвца, какъ попытка, особенно замѣчательная по своей удали и молодечеству. „Эта пѣснь — одинъ живой голосъ изъ пестрой свѣтской жизни древней Кіевской Руси, дошедшій до насъ, и вотъ почему она занимаетъ такое уединенное мѣсто посреди другихъ памятниковъ письменности этой эпохи, большею частью исходящихъ изъ другой среды. Вся литература, изъ которой она только отрывокъ, погибла, и, конечно, ея полуязыческій характеръ, не допускавшій ея въ монастырскія книгохранилища, былъ главной причиной ея гибели“.
Дѣйствительно, кругъ понятій пѣвца, сложившаго „Сл. о п. Иг.“, представляетъ замѣчательную двоевѣрную смѣсь языческихъ вѣрованій съ христіанскими воззрѣніями: Богъ кажетъ Игорю путь изъ земли Половецкой въ землю Русскую; Игорь, по возвращеніи изъ плѣна, ѣдетъ въ Кіевъ на поклоненіе къ Св. Богородицѣ Пирогощей; Половцы называются п_о_г_а_н_ы_м_и, въ отличіе отъ православныхъ Русскихъ; и тутъ-же пѣвецъ Боянъ именуется В_е_л_е_с_о_в_ы_м_ъ в_н_у_к_о_м_ъ, вѣтры — С_т_р_и_б_о_ж_ь_и_м_и в_н_у_к_а_м_и; русскій народъ — Д_а_ж_ь_б_о_ж_ь_и_м_ъ в_н_у_к_о_м_ъ; упоминаются и другія миѳическія, темныя существа, какъ напр. Т_р_о_я_н_ъ, Д_и_в_ъ и т. д. Но совершенство внутренней и внѣшней стороны „Слова о п. Иг.“ поражаетъ насъ, и твердо заставляетъ вѣрить въ то, что и до „Слова“ несомнѣнно были другія, подобныя ему произведенія: ни одна литература не можетъ представить такого прекраснаго памятника безъ предшествующаго ему ряда подобныхъ же памятниковъ, способствовавшихъ развитію рода. Отвергать возможность существованія подобныхъ памятниковъ только потому, что они не дошли до насъ — невозможно; къ тому-же, самъ пѣвецъ, сложившій пѣсню о походѣ Игоря Святославича, упоминаетъ объ одномъ изъ предшественниковъ своихъ — пѣвцѣ Боянѣ — и даже перечисляетъ тѣхъ князей, которыхъ Боянъ воспѣвалъ въ своихъ пѣсняхъ.

По какому-то особенно счастливому случаю, драгоцѣнное для насъ „Слово о полку Игоревѣ“ сохранилось до нашего времени: оно было открыто извѣстнымъ любителемъ наукъ и просвѣщенія екатерининскаго времени, графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ, въ 1795 году. Графъ отыскалъ этотъ замѣчательный памятникъ въ своей обширной библіотекѣ, въ сборникѣ, купленномъ отъ Іоиля, архимандрита Спасо-Ярославскаго монастыря. Къ сожалѣнію, сборникъ этотъ, вмѣстѣ со всею библіотекою графа Мусина-Пушкина, сгорѣлъ во время московскаго пожара 1812 г. Но до этого времени „Слово“ уже успѣли два раза издать, и многіе знатоки нашей древней палеографіи 1) успѣли его видѣть; по свидѣтельству ихъ, ,,Слово о полку Игоревѣ» писано было почеркомъ, который можно было отнести къ началу XV вѣка или къ концу XIV. Первое изданіе «Слова» было выдано въ свѣтъ самимъ Мусинымъ-Пушкинымъ, въ 1800 году, подъ заглавіемъ: «Ироическая пѣснь о походѣ на Половцевъ удѣльнаго князя Новгорода-Сѣверскаго, Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія, съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе». Съ тѣхъ поръ много разъ было оно издаваемо и переводимо, и множество самыхъ противорѣчивыхъ толковъ было возбуждено въ нашемъ ученомъ мірѣ появленіемъ въ печати этого замѣчательнаго памятника. Нашлись люди, восторженно привѣтствовавшіе «Слово о полку Игоревѣ», даже рѣшавшіеся сравнивать его съ произведеніями Гомера и съ пѣснями шотландскаго барда Оссіана, столь громко прославленнаго литературной критикой начала нынѣшняго столѣтія въ Европѣ. Но ученая критика сначала отнеслась къ «Слову» съ величайшимъ недовѣріемъ; изъ среды ученыхъ слышались даже голоса, открыто обвинявшіе графа Мусина-Пушкина въ подлогѣ. Время сомнѣній только тогда миновало, когда изученіе древне-русскаго языка подвинулось у насъ настолько, что по сравненію «Слова» съ языкомъ другихъ памятниковъ, въ немъ нельзя было не признать памятника, современнаго тѣмъ событіямъ, которыя въ немъ описываются, хотя и значительно искаженнаго позднѣйшими переписчиками.
1) Бантышъ-Каменскій, Ермолаевъ, Карамзинъ, Тимковскій и Болтинъ.
Немного лѣтъ тому назадъ, покойнымъ академикомъ Пекарскимъ былъ изданъ отысканный имъ въ бумагахъ Екатерины новый списокъ «Слова о полку Игоревѣ», сдѣланный графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ для Императрицы; но этотъ списокъ не представляетъ никакихъ особенно значительныхъ отмѣнъ противъ того, который уже былъ изданъ графомъ въ 1800 году.
Приводимъ здѣсь этотъ памятникъ цѣликомъ въ прекрасномъ переводѣ извѣстнаго нашего поэта А. Н. Майкова.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ПЯТОЙ.
правитьПервый походъ князей на Половцевъ.
правитьВъ лѣто 6611 (1103 г.) Богъ вложилъ благую мысль въ сердце русскимъ князьямъ, Святополку и Владиміру (Мономаху), и они, въ Долобьскѣ, сошлись для совѣщанія на общую думу; и сѣли, Святополкъ со своею дружиною, и Владиміръ со своею, въ одномъ шатрѣ. И начала разсуждать и говорить дружина Святополкова, «что не ладно нынѣ, весною, хотимъ идти (на Половцевъ); этимъ мы можемъ сгубить и смердовъ, и пашню ихъ». И сказалъ Владиміръ: «дивлюсь я, дружина, что вы лошадей жалѣете, на которыхъ смердъ пашетъ; а отчего же вамъ не приходитъ въ голову, подумайте вы о томъ, что какъ начнетъ смердъ пахать, и пріѣдетъ Половецъ и убьетъ его стрѣлою, а лошадь его захватитъ, и потомъ поѣдетъ въ село его, возьметъ жену его и дѣтей, и все имѣнье? Лошади вамъ жалко? а самаго его развѣ не жаль?» И дружина Святополкова ничего не могла отвѣчать ему на это, и сказалъ Святополкъ: «вотъ я и готовъ уже», и всталъ (при этихъ словахъ); и сказалъ ему Владиміръ: «ты этимъ, братъ, великую пользу приносишь землѣ Русской». И послали къ Олегу и Давыду, говоря: «ступайте на Половцевъ, чтобы намъ либо въ живыхъ быть, либо умереть». И послушалъ ихъ Давыдъ, а Олегъ не хотѣлъ этого сдѣлать, отозвался: «мнѣ нездоровится». Владиміръ же поцѣловалъ брата своего, и пошелъ къ Переяславлю, и за нимъ Святославъ, и Давыдъ Святославичъ, и Давыдъ Всеславичъ, и Мстиславъ, внукъ Игоревъ, и Вячеславъ Ярополковичъ, и Ярополкъ Владиміровичъ. И пошли они на коняхъ и въ лодьяхъ, и дошли пониже пороговъ и стали въ п_р_о_т_о_л_ч_а_х_ъ на островѣ Хортицѣ; и тамъ опять сѣли на коней и пѣшіе вышли изъ лодій, и шли степью 4 дня, и пришли на Сутѣнь. Половцы же, услышавъ, что идутъ Русскіе, собрались въ безчисленномъ множествѣ и стали совѣщаться; и сказалъ Урусоба: «будемъ просить мира у Русскихъ, такъ какъ они теперь будутъ крѣпко биться съ нами, ибо мы много зла сдѣлали Русской землѣ!» И сказали тѣ, что были помоложе Урусобы: «если ты Русскихъ боишься, такъ мы-то не боимся; вѣдь коли мы этихъ-то перебьемъ, то пойдемъ въ ихъ землю и заберемъ города ихъ, — и кто-же избавитъ ихъ отъ насъ?» А русскіе князья и воины всѣ Богу молились и обѣты давали Богу и Матери Божьей, кто кутьею, кто милостынею убогимъ, кто вкладами въ монастыри. И въ то время, какъ они такимъ образомъ молились, нашли на нихъ Половцы, и выслали съ передовымъ полкомъ Алтунопу, который славился между ними мужествомъ; русскіе князья также отъ себя выслали свой сторожевой полкъ, и подстерегъ русскій сторожевой полкъ Алтунопу, и обступилъ его, и убитъ былъ Алтунопа со всѣми своими, и ни одинъ не ускользнуть — всѣхъ избили. И пошли на Русскихъ полки (половецкіе) словно лѣса, и конца имъ не было видно; и Русскіе противъ нихъ выступили. И Великій Богъ навелъ великій ужасъ на Половцевъ, и напалъ на нихъ страхъ и трепетъ отъ лица русскихъ воиновъ, и сами они словно дремали, и у коней ихъ не было быстроты въ ногахъ; а наши весело ударили на нихъ, пѣшіе и конные. Половцы же, видя, какъ Русскіе устремились на нихъ, не допустивъ ихъ до себя, обратились въ бѣгство; а наши погнались за ними, избивая ихъ. Въ 4-й день апрѣля мѣсяца Богъ сотворилъ намъ великое спасеніе, и даровалъ намъ великую побѣду надъ врагами. И тутъ, въ битвѣ, убито было 20 князей половецкихъ: Урусобу, Кчія, Арсланопу, Еитанопу, Кумана, Асуна, Куртка. Ченегрену, Сурьбаря и нроч. князей ихъ (убили), а Белдюзя взяли въ плѣнъ. Послѣ побѣды надъ врагами, братья сѣли отдыхать. Привели Белдюзя къ Святославу, и началъ Белдюзь давать за себя золото и серебро, коней и скотъ; Святославъ же послалъ его къ Владиміру. И когда онъ пришелъ къ Владиміру, то Владиміръ началъ его спрашивать: «ты развѣ не знаешь, что вы намъ присягали? Много разъ присягали вы, и всетаки воевали Русскую землю: зачѣмъ же ты не говорилъ своимъ сыновьямъ и своему роду, чтобы они не переступали клятвы и не проливали крови христіанской? Пустьже и твоя кровь падетъ на главу твою». И повелѣлъ его убить, и изрубили его на части. И потомъ сошлись всѣ братья, и сказалъ Владиміръ: «возрадуемся и возвеселимся въ нынѣшній день, созданный Господомъ; ибо Господь избавилъ насъ отъ нашихъ враговъ, и покорилъ враговъ нашихъ, сокрушилъ главы зміевы, и отдалъ пищу ихъ Русскимъ». (Такъ говорилъ онъ), потому что Русскіе забрали тогда скотъ и овецъ, и коней, и верблюдовъ половецкихъ, и вежи ихъ со всѣмъ достаткомъ и челядью ихъ, и захватили Печенѣговъ и Торковъ съ ихъ вежами. И вотъ возвратились они на Русь съ множествомъ плѣнныхъ, и съ великою славою и побѣдою.
Походъ Игоря Сѣверскаго на Половцевъ.
правитьВъ лѣто 6693 (1185) князь Святославъ послалъ Романа Нѣздиловича, съ Берендѣями, на поганыхъ Половцевъ; Божіею помощію взяли половецкія вежи, много плѣнныхъ и коней, въ 21-й день апрѣля мѣсяца на самый великій день (Свѣтлое Христово Воскресенье)…
Въ тоже время Игорь Святославичъ, Ольговъ внукъ, поѣхалъ изъ Новгорода (Сѣверскаго) въ 23 день апрѣля, во вторникъ, взявъ съ собою брата Всеволода изъ Трубчевска, и Святослава Ольговича, племянника своего изъ Рыльска, и Владиміра, сына своего изъ Путивля, и у Ярослава испросилъ себѣ въ помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, съ черниговскими Коуями; и такъ шли они тихо, собирая свою дружину; кони у нихъ были очень тучны (и потому не могли идти быстро). И въ то время, какъ они шли къ рѣкѣ Донцу, подъ вечеръ, Игорь взглянулъ на небо и, видя солнце, стоящее подобно мѣсяцу, сказалъ боярамъ своимъ и дружинѣ своей: «видите-ли вы это знаменье?» Они посмотрѣли и увидѣли всѣ, и поникли головами, и сказали: «князь, не на добро намъ это знаменіе!» Игорь же сказалъ: «братья и дружина! тайны Божіей никто не знаетъ, а знаменіе точно также, какъ и весь міръ, отъ Бога сотворено; что Богъ сотворитъ на добро или на зло намъ, то все увидимъ». И сказавъ это, переправился онъ въ бродъ черезъ Донецъ, и такъ пришелъ къ Осколу и ждалъ два дня брата своего Всеволода, который шелъ инымъ путемъ изъ Курска; и оттуда вмѣстѣ пошли къ Сальницѣ; тутъ къ нимъ и разъѣзды тѣ пріѣхали, которыхъ посылали ловить языка, и сказали пріѣхавъ: «видѣлись мы съ ратными людьми (непріятельскими), и нашли ихъ наготовѣ; такъ ужъ вы или поѣзжайте на нихъ поскорѣе, или домой возвратитесь, потому не время намъ теперь (нападать)». Игорь же сталъ говорить со своими братьями: «коли мы, небившись, возвратимся, то срамъ намъ будетъ хуже смерти; (пусть будетъ) какъ намъ Богъ дастъ!» И такъ подумавши, ѣхали они всю ночь, и на другой день, когда настала пятница, въ обѣденное время встрѣтили полки половецкіе; тѣ изготовились къ бою противъ нихъ, вежи свои оставили за собою, а сами, собравшись отъ мала до велика, стояли по ту сторону рѣки Сюурлія. И Русскіе устроили шесть полковъ: Игоревъ полкъ по срединѣ, а по правую руку полкъ брата его Всеволода; а по лѣвую — племянника его Святослава; напереди его сынъ Володимеръ и другой полкъ Ярославовъ, тѣ Коуи, что бьгли съ Ольстиномъ; а третій полкъ, также напереди, стрѣльцы, которые были выбраны изъ (отрядовъ) всѣхъ князей; такъ-то устроили полки свои. И сказалъ Игорь къ братьямъ своимъ: «братья! этого мы искали, ударимъ же дружно»; и такъ пошли на непріятеля, положивъ свое упованіе на Бога, и когда подошли къ рѣкѣ Сюурлію, то выѣхали изъ половецкихъ полковъ стрѣльцы, пустили по стрѣлѣ на Русскихъ и ускакали, тогда какъ Русскимъ еще не удалось и перебраться черезъ рѣку Сюурлін; (побѣжали вслѣдъ за первыми) и тѣ половецкія силы, которыя стояли далеко отъ рѣки. Святоставъ же Ольговичъ, Володимеръ Игоревичъ и Ольстинъ съ Коуями, и стрѣльцы погнались за ними, а Игорь и Всеволодъ полегоньку пошли вслѣдъ, не распуская своего полка, между тѣмъ какъ тѣ Русскіе, что впереди были, били Половцевъ, ловили; Половцы же пробѣжали вежи, и Русскіе, дойдя до вежей, обогатились плѣнниками, иные даже и ночью только уже вернулись къ полкамъ своимъ съ плѣнниками.
И когда (послѣ того) Половцы всѣ (вновь) собрались, Игорь сказалъ братьямъ своимъ и мужамъ: «вотъ Богъ силою своею возложилъ на враговъ нашихъ побѣду, а на насъ честь и славу; видѣли мы много полковъ половецкихъ, а тутъ ужъ чуть-ли не всѣ они собрались? ныньче же ночью поѣдемъ, а кто завтра поѣдетъ, вслѣдъ за нами, то если и всѣ поѣдутъ, однако же одни лучшіе изъ всадниковъ нашихъ переберутся; а самимъ-то намъ какъ Богъ дастъ». И сказалъ Святославъ Ольговичъ мужамъ своимъ: «я далеко гонялся за Половцами, кони мои изнемогли: коли я ныньче поѣду, то мнѣ прійдется остаться на дорогѣ», — и Всеволодъ поддержалъ его также въ томъ, чтобы тутъ-же остановиться. И сказалъ Игорь: «недивно, братья, и умереть разумѣя» — и остановились тутъ.
На разсвѣтѣ же, въ субботу, начали выступать полки половецкіе, словно лѣса; недоумѣвали князья русскіе, кому на который изъ нихъ нападать, ибо ихъ было безчисленное множество. И сказалъ Игорь: «мы должны были ожидать, что на насъ соберется вся земля (Половецкая): Кончакъ и Козубурновичъ и Токсобичъ, Колобичъ, и Етебичъ и Терьтробичъ». Послѣ этого всѣ спѣшились, ибо хотѣли, сражаясь, пробиться къ рѣкѣ Донцу; они говорили (между собою): «ежели побѣжимъ, и уйдемъ сами, а черныхъ людей оставимъ, то передъ Богомъ будетъ намъ грѣшно уйти, предавши ихъ; нѣтъ! или умремъ, или живы будемъ, не сходя съ мѣста». И сказавъ это, всѣ сошли съ коней, и ударили на врага; и такъ по Божьему попущенію, раненъ былъ Игорь въ руку и не могъ владѣть лѣвою рукою своею, и весь полкъ его былъ (этимъ) опечаленъ и воеводу того полка взяли въ плѣнъ, послѣ того, какъ онъ раненъ былъ въ переднихъ рядахъ. И такъ крѣпко бились они весь тотъ день до вечера, и многіе были ранены и убиты въ числѣ Русскихъ; настала ночь субботы, а битва все продолжалась; на разсвѣтѣ, въ воскресенье, дрогнули Ковуи и побѣжали. Игорь въ то время былъ на конѣ, такъ какъ онъ былъ раненъ, и поскакалъ къ полку ихъ, думая возвратить его къ остальнымъ полкамъ; но, сообразивъ, что далеко уклонился отъ своихъ, снялъ съ себя шлемъ и опять погналъ назадъ къ полкамъ (русскимъ), для того, чтобы, узнавъ князя, и они воротились (т. е. Ковуи); но никто такъ и не воротился, кромѣ Михаила Юрьевича, который воротился, узнавъ князя; добрые (воины) однако же не смутились вмѣстѣ съ Ковуями, развѣ только немногіе изъ простыхъ и изъ слугъ боярскихъ; добрые же (воины) всѣ бились пѣшіе — и посреди ихъ Всеволодъ показалъ не мало мужества. И какъ приблизился Игорь къ полкамъ своимъ, то (Половцы) перерѣзали ему дорогу и тутъ онъ былъ взятъ на разстояніи одного перестрѣла отъ полка своего. И въ то время, какъ Игоря держали, онъ видѣлъ, какъ братъ его крѣпко боролся (съ врагами), и просилъ душѣ своей смерти, дабы не увидѣть паденія брата своего; Всеволодъ же до того бился, что и оружіе не выдержало въ его рукѣ, и бились (воины его), идучи вкругъ озера. И такъ, въ день Св. Воскресенья, Господь навелъ на насъ гнѣвъ свой, радость смѣнилъ плачемъ и веселье печалью, на рѣкѣ на Каялѣ.
(За этимъ слѣдуетъ въ лѣтописи описаніе того впечатлѣнія, которое произвели на Руси слухи о гибели русскаго войска и о плѣненіи князей; послѣ того разсказывается о набѣгѣ Половцевъ на русскія княжества, а потомъ — о пребываніи Игоря въ плѣну у Половцевъ). Игорь же Святославичъ въ то время (т. е. послѣ половецкаго побѣга) былъ у Половцевъ и говорилъ: «я вполнѣ заслуживалъ того пораженія, которое понесъ по повелѣнію Твоему, Владыко Господи, и не поганская дерзость надломила силу рабовъ Твоихъ; не жалѣю я о томъ, что за все злое, сдѣланное мною, принялъ всю ту нужду, которую пришлось принять». Половцы же, какъ бы стыдясь воеводства его, не дѣлали ему ничего дурнаго, но приставили къ нему 15 сторожей изъ сыновъ своихъ, да господичей 5, а всѣхъ-то 20; однако-же давали ему волю ѣздить, гдѣ хочетъ, и съ ястребами охотиться. А своихъ слугъ съ нимъ ѣздило 5 или 6; и тѣ сторожа (Половцы) слушали Игоря и почетъ ему оказывали, и куда кого онъ посылалъ, безъ возраженія исполняли повелѣнное имъ. Пона же привелъ онъ себѣ изъ Руси, со святою службою: ибо не зналъ онъ Божьяго Промысла, и полагалъ, что ему тамъ прійдется долго быть. Но Господь избавилъ его за молитву христіанъ, такъ какъ многіе о немъ жалѣли и проливали за него слезы. Въ то время, какъ онъ былъ у Половцевъ, тамъ нашелся мужъ, родомъ Половчинъ, именемъ Лаворъ: тому пришла въ голову благая мысль, и сказалъ онъ: «пойду съ тобою въ Русь». Игорь же сначала не повѣрилъ ему; онъ помышлялъ о томъ, чтобы бѣжать въ Русь, захвативъ съ собою мужей своихъ, и говорилъ: «я тогда ради славы не бѣжалъ отъ дружины, и нынѣ не пойду безславнымъ путемъ». Съ нимъ же былъ (въ плѣну) сынъ тысяцкаго и конюшій его, и тѣ понуждали его и говорили: «пойди, князь, въ Русскую землю, если Богу угодно будетъ избавить тебя» и все не удавалось ему найти такого времени, какое ему было потребно. Половцы же, какъ мы уже выше говорили, возвратились отъ Переяславля (изъ набѣга); и сказали Игорю его думцы: «ты въ себѣ держишь мысль высокую и неугодную Господу; ты ищешь случая взять съ собою одного изъ мужей своихъ и съ нимъ бѣжать; а почему же не подумаешь о томъ, что прійдутъ Половцы съ войны, и, какъ мы слышали, изобьютъ всѣхъ васъ князей и всѣхъ Русскихъ? Тогда не будетъ тебѣ ни славы, ни жизни». Князь же Игорь принялъ къ сердцу совѣтъ ихъ, сталъ тревожиться о пріѣздѣ ихъ (Половцевъ) и (въ то же время) искалъ случая къ побѣгу. Нельзя было ему бѣжать ни днемъ, ни ночью, такъ какъ сторожа (постоянно) стерегли его; время для побѣга нашелъ онъ на закатѣ солнца. И послалъ Игорь къ Лавру своего конюшаго, сказать: «перейди на ту сторону Тора, съ конемъ въ поводу» — онъ съ нимъ уговорился бѣжать на Русь. Въ то время Половцы напились кумыса, и дѣло было вечеромъ; пришелъ конюшій и сказалъ князю, что ждетъ его Лаворъ. И вотъ князь всталъ въ страхѣ и трепетѣ, и поклониіся образу Божію и кресту честному, говоря: «Господи, сердцевидецъ! спасешь и Ты, Владыко, меня недостойнаго?» — и взявъ съ собою крестъ, и икону, и поднявъ стѣну (шатра), вылѣзъ вонъ. Между тѣмъ сторожа его играли и веселились, и считали князя спящимъ. Князь же пришелъ къ рѣкѣ и перешелъ ее въ бродъ, и сѣлъ на коня: и такъ прошли они чрезъ всѣ вежи. Это избавленіе (отъ плѣна) Господь сотворилъ въ пятокъ, вечеромъ. И шелъ князь пѣшкомъ 11 дней до города Донца, а оттолѣ пошелъ въ свой Новгородъ (Сѣверскій) — и всѣ обрадовались ему; изъ Новгорода пошли къ брату Ярославу въ Черниговъ, прося, чтобы онъ помогъ ему на Посемъѣ; Ярославъ же обрадовался ему и обѣщалъ дать ему помощь; Игорь же оттуда поѣхалъ къ Кіеву, къ великому князю Святославу, и радъ былъ ему Святославъ, а также Рюрикъ, сватъ его.
Слово о полку Игоревѣ.
правитьВЪ ПЕРЕВОДѢ А. Н. МАЙКОВА.
правитьНе начать-ли нашу пѣснь, о братья,
Со сказаній о старинныхъ браняхъ, —
Пѣснь о храброй Игоревой рати
И о немъ, о сынѣ Святославѣ,
И воспѣть ихъ, какъ поется нынѣ,
Не гоняясь мыслью за Бояномъ!
Пѣснь слагая, онъ, бывало, Вѣщій,
Быстрой векшей по лѣсу носился,
Сѣрымъ волкомъ въ чистомъ полѣ рыскалъ,
Что орелъ ширялъ подъ облаками!
Какъ воспомнитъ брани стародавни,
Да на стаю лебедей и пуститъ
Десять быстрыхъ соколовъ въ догонку:
И какую первую настигнетъ,
Для него и пѣсню пой та лебедь, —
Пѣсню пой о старомъ Ярославѣ-ль,
О Мстиславѣ-ль, что въ бою зарѣзалъ,
Поборовъ, Касожскаго Редедю,
Аль о славномъ о Романѣ Красномъ…
Но не десять соколовъ то было:
Десять онъ перстовъ пускалъ на струны,
И князьямъ, подъ вѣщими перстами,
Рокотали славу сами струны!…
Поведемъ же, братія, сказанье
Отъ временъ Владиміровыхъ древнихъ,
Доведемъ до Игоревой брани,
Какъ онъ думу крѣпкую задумалъ,
Наострилъ отвагой храброй сердце,
Раскалился славнымъ ратнымъ духомъ
И на землю русскую дружины
Въ степь повелъ на хановъ половецкихъ.
- У Донца былъ Игорь, только видитъ —
Словно тьмой полки его прикрыты,
И воззрѣлъ на свѣтлое онъ солнце —
- Видитъ: солнце — что двурогій мѣсяцъ,
- А въ рогахъ былъ словно угль горящій;
- Въ темномъ небѣ звѣзды просіяли;
- У людей въ глазахъ позеленѣло.
- «Не добра ждать», говорятъ въ дружинѣ.
- Старики поникли головами:
- «Быть убитымъ намъ или плѣненнымъ».
Князь же Игорь: "Братья и дружина,
"Лучше быть убиту, чѣмъ плѣнену!
- "Но кому пророчится погибель —
- "Кто узнаетъ — намъ или поганымъ?
"А посядемъ на коней на борзыхъ,
«Да хоть позримъ синяго-то Дону!»
Не послушалъ знаменья онъ Солнца,
Распалясь взглянулъ на Донъ великій!
«Преломить копье свое», онъ кликнулъ,
"Вмѣстѣ съ вами, Русичи, хочу я,
"На концѣ невѣдомаго поля!
"Хоть за то-бъ и голову сложити,
«А испить шеломомъ Дону — любо!»
О Боянъ, о вѣщій пѣенотворецъ,
Соловей временъ давно минувшихъ!
Ахъ, тебѣ-бъ пѣвцомъ быть этой рати!
Лишь скача по мысленному древу,
Возносясь умомъ подъ сизы тучи,
Съ древней славой новую свивая,
Въ путь Трояновъ мчась чрезъ долъ на горы 1),
Воспѣвать бы Игореву славу!
То не буря соколовъ помчала,
И не стаи галчьи побѣжали
Чрезъ поля-луга на Донъ великій…
Ахъ, тебѣ-бы пѣть, о внукъ Велесовъ!…
За Сулой-рѣкою да ржутъ кони,
Звонъ звенитъ во Кіевѣ во стольномъ,
Въ Новѣградѣ затрубили трубы;
Вѣютъ стяги 2) красные въ Путивлѣ…
Поджидаетъ Игорь мила брата;
А пришелъ и Всеволодъ, и молвитъ:
"Игорь братъ, единъ ты свѣтъ мой свѣтлый
"Святославли мы сыны, два брата!
"Ты сѣдлай ковей своихъ ретивыхъ,
"А мои осѣдланы ужь въ Курскѣ!
"И мои Куряне-ль не смышлены!
"Повиты подъ бранною трубою,
"Повзросли подъ шлемомъ и кольчугой,
"Со конца копья они вскормлены! .:
"Всѣ пути имъ свѣдомы, овраги!
"Луки туги, тулы отворены,
"Остры сабли крѣпко отточены,
"Сами скачутъ, словно волки въ полѣ,
«Алчутъ чести, а для князя славы!…»
И вступилъ князь Игорь во златъ стремень,
И дружины двинулись за княземъ.
Солнце путь ихъ тьмою заступало:
Ночь пришла — та взвыла, застонала,
Стономъ-воемъ птицъ поразбудила.
Вкругъ стоянкп свистъ пошелъ звѣриный.
Высоко поднявшися по древу,
Черный Дивъ закликалъ, подавая
Вѣсть на всю незнаемую землю,
На Сулу, на Волгу и Поморье,
На Корсунь и Суражсксе море,
И тебѣ, болванъ Тмутороканскій!
И бѣгутъ неѣзжими путями
Къ Дону тьмы поганыхъ, и отвсюду
Отъ телѣгъ ихъ скрыпъ пошелъ, — ты скажешь:
Лебедей испуганные крики.
Игорь путь на Донъ великій держитъ,
А надъ нимъ бѣду ужъ чуютъ птицы
И несутся слѣдомъ за полками;
Воютъ волки по крутымъ оврагамъ,
Ощетинясь, словно бурю кличутъ;
На красны щиты лисицы брешутъ,
А орлы, зловѣщимъ клектомъ, словно
По степямъ звѣрье зовутъ на кости…
А ужъ въ степь зашла ты, Русь, далеко!
Перевалъ давно переступила!…
Ночь рѣдѣетъ. Бѣлъ разсвѣтъ проглянулъ,
По степи туманъ понесся сизый;
Позамолкнулъ щекотъ соловьиный,
Галчій говоръ по кустамъ проснулся…
Въ полѣ Русь, съ багряными щитами,
Длиннымъ строемъ изрядилась къ бою,
Алча чести, а для князя славы.
И въ пятокъ-то было, съ позаранья,
Потоптали храбрые поганыхъ!
По полю разсыпавшись что стрѣлы,
Красныхъ дѣвъ помчали половецкихъ,
Аксамиту, паволокъ и злата,
А орницъ и всякихъ узорочій,
Кожуховъ и юртъ такую силу,
Что мосты въ грязяхъ мостили ими.
Все дружинѣ храброй отдалъ Игорь,
Красный стягъ одинъ себѣ оставилъ,
Красный стягъ, серебрянеое древко,
Съ алой чолкой, съ бѣлою хоругвью.
Дремлетъ храброе гнѣздо Олега.
Далеко, родное, залетѣло!
"Не родились, знай, мы на обиду
"Ни тебѣ, быстръ соколъ, пестеръ кречетъ,
«Ни тебѣ, золъ воронъ — Половчанинъ»…
А ужъ Гзакъ несется сѣрымъ волкомъ
И Кончакъ за Гзакомъ имъ на встрѣчу…
И въ другой день, полосой кровавой,
Повѣщаютъ день кровавой зори…
Идутъ тучи черныя отъ моря,
Тьмой затмить хотятъ четыре солнца…3).
Синія въ нихъ молніи трепещутъ…
Выть то грому, дождичку пролиться,
Калеными вылиться стрѣлами!
Поломаться копьямъ о кольчуги,
Потупиться саблямъ о шеломы!
О шеломы Половчаііъ поганыхъ!
А ужъ въ степь зашла ты, Русь, далеко!
Перевалъ давно переступила!…
Чу! Стрибожьи чада понеслися,
Вѣютъ вѣтры, ужъ наносятъ стрѣлы,
На полки ихъ Игоревы сыплютъ…
Помутились, пожелтѣли рѣки,
Загудѣло поле, пыль поднялась,
И сквозь пыли ужъ знамена плещуть…
Ото всѣхъ сторонъ враги подходятъ,
И отъ Дона, и отъ синя моря,
Обступаютъ нашихъ отовсюду!
Отовсюду бѣсовы изчадья
Понеслися съ гиканьемъ и крикомъ:
Молча, Русь, отпоръ кругомъ готовя,
Подняла щиты свои багряны.
Ярый туръ ты, Всеволодъ, стоишь ты
Впереди съ Курянами своими!
Прыщешь стрѣлами на вражьи вои,
О шеломы ихъ гремишь мечами!
Гдѣ ты, буй-туръ, ни поскачешъ въ битвѣ,
Золотымъ посвѣчивая шлемомъ, —
Тамъ валятся головы поганыхъ,
Тамъ трещатъ аварскіе шеломы
Вкругъ тебя отъ сабель молодецкихъ!
Не считаетъ ранъ ужъ онъ на тѣлѣ!
Да ему о ранахъ-лн тутъ помнить,
Коль забылъ онъ и Черниговъ славный,
Отчій столъ, честны пиры княжіе
И своей красавицы княгини,
Той-ли свѣтлой Глѣбовны, утѣхи,
Милый. ликъ и ласковый обычай!
Были вѣки темнаго Трояна,
Ярослава годы миновали;
Были брани храбраго Олега…
Тотъ Олегъ мечомъ ковалъ крамолу,
Сѣядъ стрѣлы по землѣ по русексй…
Затрубилъ овъ сборъ въ Тауторгкави:
Слышалъ трубы Всеволодъ великій,
И съ утра въ Чернвтовѣ Владиміръ
Самъ въ стѣнахъ закладывалъ ворота…
Но Бориса ополчила слава
И на смертный одръ его сложила
На зеленомъ полѣ у Канина…
Палъ младъ князь, палъ храбрый Вячеславичъ,
За его-жъ за Ольгову обиду!
И съ того зеленаго же поля,
На своихъ угорскихъ иноходцахъ,
Ярополкъ увезъ и отче тѣло
Ко святой Софіи въ стольный Кіевъ.
И тогда-жъ, въ тѣ злые дни Олега,
Сѣялось крамолой и растилось
На Руси отъ внуковъ Гориславны;
Погибала жизнь Дажьбожъихъ внуковъ,
Сокращалисъ вѣки человѣковъ…
Въ дни тѣ рѣдко ратаи за плугомъ
На Руси покрикивали въ полѣ;
Только враны каркали на трупахъ,
Галки рѣчь вели между собою,
Далеко почуя мертвячину.
Такъ въ тѣ брани, такъ въ тѣ рати было,
Но такой, какъ Игорева битва,
На Руси не видано отъ вѣка!
Отъ зари до вечера, день цѣлый,
Съ вечера до свѣта рѣютъ стрѣлы,
Гремлютъ остры сабли о шеломы,
Съ трескомъ копія ломятся булатны,
Середи невѣдомаго поля,
Въ самомъ сердцѣ Половецкой степи!
Подъ копытомъ черное все поле
Было сплошь засѣяно костями,
Было кровью алою полито,
И взошелъ посѣвъ по Руси горемъ!…
Что шумитъ-звенитъ передъ зарею?
Скачетъ Игорь полкъ поворотити…
Жалко брата… Третій день ужъ бьются!
Третій день къ полудню ужъ подходитъ:
Тутъ и стяги Игоревы пали!
Стяги пали, тутъ и оба брата
На Каялѣ быстрой разлучились…
Ужъ у храбрыхъ Русичей не стало
Тутъ вина кроваваго для пира,
Попоили сватовъ и костями
Полегли за отческую землю!
Въ полѣ травы съ жалости поникли,
Дерева съ печали преклонились…
Невеселый часъ насталъ, о братья!
Ужъ пустыня скрыла поле боя,
Гдѣ легла Дажьбожья внука сила —
Но надъ ней стоитъ ея обида…
Приняла Обида образъ дѣвы,
И ступила на землю Трояню,
Распустила крылья лебедины
И крылами плещучи у Дона,
Въ синемъ морѣ плеща, громкимъ гласомъ
О годахъ счастливыхъ поминала:
"Отъ усобицъ княжихъ — гибель Руси!
"Братья спорятъ: то мое и это!
"Золъ раздоръ изъ малыхъ словъ заводятъ,
"На себя куютъ крамолу сами,
"А на Русь съ побѣдами приходятъ
"Отовсюду вороги лихіе!
"Залетѣлъ далече, ясный соколъ,
"Загоняя птицъ ко синю морю, —
"А полка ужъ Игорева нѣту!
"На всю Русь поднялся вой помипокъ,
"Поскочила скорбь отъ веси къ веси,
"И, мужей зовя на тризну, мечетъ
"Имъ смолой пылающіе роги…
"Жены плачутъ, слезно причитаютъ:
"Ужъ ни мыслью милыхъ намъ не смыслить!
"Ужъ ни думой ладъ своихъ не сдумать!
"Ни очами намъ на нихъ не глянуть,
"Златомъ, сребромъ намъ уже не звякнуть!
"Стонетъ Кіевъ, тужитъ градъ Черниговъ,
"Широко печаль течетъ по Руси;
"А князья куютъ себѣ крамолу,
"А враги съ побѣдой въ селахъ рыщутъ,
"Собираютъ дань по бѣлкѣ съ дыму…
"А все храбрый Всеволодъ да Игорь!
"То они зло лихо разбудили:
"Усыпилъ было его могучій
"Святославъ, князь Кіевскій великій…
"Былъ грозой для хановъ половецкихъ!
"Наступилъ на землю ихъ полками,
"Притопталъ ихъ холмы и овраги,
"Возмутилъ ихъ рѣки и озера,
"Изсушилъ потоки и болота!
"А того поганаго Кобяка,
"Изъ полковъ желѣзныхъ половецкихъ,
"Словно вихрь, изторгъ изъ лукоморья —
"И упалъ Кобякъ во стольный Кіевъ,
"Въ золотую гридню къ Святославу…
"Нѣмцы, Греки и Венеціяне,
"И Морава хвалятъ Святослава,
"И корятъ всѣ Игоря, смѣются,
"Что на днѣ Каялы половецкой
"Погрузилъ онъ русскую рать-силу,
"Рѣку Русскихъ золотомъ засыпалъ,
"Да на ней же самъ съ сѣдла златаго
«На сѣдло кощея пересаженъ».
Въ городахъ затворены ворота.
Пріумолкло на Руси веселье.
Смутенъ сонъ присвился Святославу.
«Снилось мнѣ», онъ сказывалъ боярамъ, —
"Что меня, на кипарисномъ ложѣ,
"На горахъ, здѣсь въ Кіевѣ, вы чернымъ
"Одѣвали съ вечера покровомъ;
"Съ синимъ мнѣ виномъ мѣшали зелье;
"Изъ поганыхъ половецкихъ туловъ 4)
"Крупный жемчугъ сыпали на лоно;
"Всѣ за мной ухаживаютъ, смотрятъ, —
"Въ терему-жъ зодотоверхомъ словно
"Изъ конька повыскочили брусья;
"И всю ночь прокаркали у Плѣнска,
"Тамъ, гдѣ прежде дебрь была Кисаня,
"На подольѣ, стаи черныхъ врановъ,
«Проносясь несмѣтной тучей къ морю»…
Отвѣчали княжіе бояре:
"Умъ твой, княже, полонило горе!
"Съ златъ стола два сокола слетѣли,
"Похотѣвъ испить шеломомъ Дону,
"Поискать себѣ Тмуторокани.
"Порубили Половцы имъ крылья,
"А самихъ опутали въ желѣза!
"Въ третій день внезапу тьма насталгЛ
"Оба солнца красныя померкли,
"Два столба багряные погасли,
"Съ ними оба тьмой поволоклися
"И въ небесныхъ безднахъ погрузились,
"На веселье ханамъ половецкимъ,
"Молодые мѣсяцы, два свѣта
"Володиміръ съ храбрымъ Святославомъ!
"На Каялѣ Тьма нашъ свѣтъ покрыла,
"И простерлись Половцы по Руси,
"Словно люты пардусовы гнѣзда!
"Ужъ хула на славу поднялася,
"Зла нужда ударила на волю,
"Черный Дивъ повергнулся на землю,
"Радъ, что дѣвы готскія запѣли
"По всему побрежью синя моря,
"Золотомъ позваниваютъ русскимъ,
"Прославляютъ Бусовы побѣды
"И лелѣютъ месть за Шарукана… 5).
«До веселья-ль, княже, тутъ дружинѣ!»
Изронилъ тогда, въ отвѣтъ боярамъ,
Святославъ изъ устъ златое слово, —
Горючьми слезами облитое:
"Дѣтки, дѣтки, Всеволодъ мой, Игорь!
"Сыновцы 6) мои вы дорогіе!
"Не въ пору искать пошли вы славы
"И громить мечами вражью землю!
"Ни побѣдой, ни пролитой кровью
"Для себя не добыли вы чести!
"Да сердца-то ваши удалыя
"На огнѣ искованы на лютомъ,
"Во отвагѣ буйной закалены!
"Что теперь вы, дѣти, сотворили
"Съ сѣдиной серебряной моею?
"Нѣтъ со мной ужъ брата Ярослава!
"Онъ-ли, сильный, онъ-ли, многоратный,
"Со своей черниговской дружиной,
"Съ удальцами, съ Татры и Ревуги,
"Со всего карпатскаго угорья…
"Тѣ — съ ножами, безъ щитовъ, лишь кликомъ,
"Только звономъ въ прадѣднюю славу,
"Побѣждаютъ полчища и рати…
"Вы-жъ возмнили: сами одолѣемъ!
"Всю сорвемъ, что въ будущемъ есть, славу,
"Да и ту, что добыли ужъ дѣды!…
"Старику-бъ помолодѣть не диво!
"Вьетъ гнѣздо соколъ и птицъ взбиваетъ,
"Своего гнѣзда не дастъ въ обиду,
"Да бѣда — въ князьяхъ мнѣ нѣтъ помоги!
"Все пошло со старостью подъ гору!…
"Крикъ въ Ромнахъ подъ саблей половецкой!
"Володиміръ ранами изъязвленъ,
"Стонетъ, тужитъ Глѣбовичъ удалой…
"Что-жъ ты, княже, Всеволпдъ Великій!
"И не въ мысль тебѣ перелетѣти,
"Издалека поблюсти столъ отчій;
"Могъ бы Волгу веслами разбрызгать,
"Могъ бы Донъ шеломами расчерпать!
"Будь ты здѣсь, да Половцевъ толпою
"Продавили-бъ; дѣвка — по ногатѣ,
"Смердъ-кощей по рѣзани пошелъ-бы!
"Вѣдь стрѣлять и по суху ты можешь —
"У тебя на то живыя стрѣлы —
"Двое братьевъ, Глѣбовиіей храбрыхъ!
"Ты, буй Рюрикъ, ты, Давидъ удалый!
"Вы-ль съ дружиной по златые шлемы
"Во крови не плавали во вражьей?
"Ваши-ль рати не рычатъ по степи,
"Словно туры, раненые саблей!
"Ой, вступите въ золотое стремя,
"Раскалитесь гнѣвомъ за обиду
Вы за землю русскую родную,
"За живыя Игоревы раны!
"Остромыслъ ты вѣщій, Ярославе…
"Высоко на золотомъ престолѣ
"Возсѣдаешь въ Галичѣ ты крѣпкомъ!
"Подперъ ты своей желѣзной ратью,
"Что стѣной, карпатскія угорья,
"Заградивъ для короля дорогу,
"Затворивъ ворота на Дунаѣ,
"Черезъ тучи сыпля горы камней
"И судя до самаго Дуная!
"И текутъ отъ твоего престола
"По землямъ на супротивныхъ грозы…
"Отворяешь въ Кіевѣ ворота,
"Мечешь стрѣлы за земли въ салтановъ!…
"Ахъ, стрѣляй въ поганаго кощея,
"Разгроми Кончака за обиду,
"Встань за землю русскую родную,
"За живыя Игоревы раны!…
"Ты, Романъ, съ своимъ Мстиславомъ вѣрнымъ
"Смѣло мысль стремитъ вашъ умъ на подвигъ!
"Ты, могучій, въ замыслахъ высоко
"Возлетаешь, что соколъ ширяя
"На вѣтрахъ, надъ вѣрною добычей…
"Грудь у васъ изъ-подъ латинскихъ шлемовъ
"Вся покрыта кольчатою сѣткой!
"Передъ вами трепетали земли,
"Потрясались хановскія страны,
"Деремела-жъ, Половцы съ Литвою
"И Ятвяги палицы бросали
"И во прахъ кидались передъ вами!
"Свѣтъ, о князь, отъ Игоря уходитъ!
"Не на благо листъ спадаетъ съ древа!
"По Роси, Сулѣ врагъ грады дѣлитъ,
"А полку ужъ Игорева нѣту!
"Донъ зоветъ, Романъ, тебя на подвигъ,
"Всѣхъ князей сзываетъ на побѣду,
"А одни лишь Ольговичи вняли
"И на брань, по зву его, доспѣли…
"Ингваръ, Всеволодъ, и вы, три брата,
"Вы, три сына храбраго Мстислава,
"Не худа гнѣзда птенцы крылаты:
"Отчинъ вы мечомъ не добывали —
"Гдѣ же ваши шлемы золотые?
"Аль ужъ нѣтъ щитовъ и ляшскихъ палицъ?
"Заградите острыми стрѣлами
"Ворота на Русь съ широкой степи!
"Потрудитесъ, князи, въ полѣ ратномъ,
"Всѣ за землю русскую родную,
"За живыя Игоревы раны!…
"Ужъ не той серебряной струею
"Потекла Сула къ Переяславлю,
"И Двина пошла уже болотомъ,
"Взмущена врагомъ, подъ грозный Полоцкъ!
"Услыхалъ и Полоцкъ крикъ поганыхъ!
"Изяславъ булатными мечами
"Позвонилъ одинъ о вражьи шлемы.
"Да разбилъ лишь дѣдовскую славу —
"Самъ сраженъ литовскими мечами
"И изрубленъ на травѣ кровавой,
"Подъ щитами красными своими!
"И на томъ одрѣ на смертномъ лежа
"Самъ сказалъ: "Вороньими крылами
"Пріодѣлъ ты, князь, свою дружину.
"Полизать звѣрямъ ея далъ крови!
"И одинъ, безъ брата Брячислава.
"Безъ другаго Всеволода-брата,
"Изронилъ жемчулгную онъ душу,
"Изронилъ, одинъ, изъ храбра тѣла,
"Сквозь свое златое ожерелье!…
"И поникло въ отчинѣ веселье,
Въ Городнѣ трубятъ печально трубы. .
"Всѣ вы, внуки грознаго Всеслава,
"Опустите ваши красны стяги,
"И въ ножны мечи свои вложите:
"Вы изъ дѣдней выскочили славы!
"Наводить на отчій край поганыхъ!
"Съ давнихъ дней, не лучше половецкихъ,
"Таковы жъ насилья были Руси
"И отъ васъ, и вашего Всеслава!
"Любъ ему былъ Кіевъ, что дѣвица:
"О него онъ жеребій и кинулъ,
"Перегнулся на сѣдлѣ, помчался,
"Да лишь древкомъ копія доткнулся
"До его престола золотого!
"Въ ночь утекъ оттуда лютымъ звѣремъ,
"Синей мглой изъ Бѣлграда поднялся,
"Утромъ билъ ужъ стѣны въ Новѣградѣ,
"Ярослава славу порушая…
"Проскочилъ оттуда сѣрымъ волкомъ
"Отъ Дудутокъ на рѣку Нѣмигу…
"Не снопы-то стелютъ на Нѣмигѣ,
"Человѣчьи головы кидаютъ!
"Не цѣпами молотятъ, мечами!
"Жизнь на токъ кладутъ и вѣютъ душу,
"Вѣютъ душу храбрую отъ тѣла!
"Охъ, не житомь сѣяны, костями
"Берега кровавые Нѣмиги,
"Все своими русскими костями!…
"Князь Всеславъ суды судилъ княжіе,
"Раздавалъ князьямъ столы и грады,
"По ночамъ же рыскалѣ сѣрымъ волкомъ,
"Поспѣвалъ въ Тмуторокань къ разсвѣту,
"Ясну Солнцу путь перебѣгая…
"Позвонятъ заутреню, бывало,
"Для него у полоцкой Софіи —
"Онъ же звонъ изъ Кіева все слышалъ…
"А хоть былъ и съ вѣщею душою,
"Хоть умѣлъ обертываться звѣремъ,
"Все жъ бѣды терпѣлъ таки не мало!
"Про него и спѣлъ Боянъ припѣвку:
"Будь хитеръ-гораздъ, вертись хоть птицей,
"Все суда ты Божьяго не минешь!..
"Да, стонать намъ всей землею русской,
"Про князей воспоминая давнихъ,
"Вспоминая прежнее ихъ время!
"Да нельзя жъ вѣдь было пригвоздити
"Ко горамъ ко Кіевскимъ высокимъ
"Старика Владиміра на вѣки!
"По рукамъ пошли его знамена
"И ужъ розно машутъ бунчуками,
«Розно копья пѣть пошли по рѣкамъ!»
Игорь слышитъ Ярославнинъ голосъ .
Тамъ, въ землѣ не знаемой, кукушкой
Поутру она кукуетъ, плачетъ:
"Полечу кукушечкой къ Дунаю,
"Омочу бебрянъ рукавъ въ Каялѣ,
"Оботру кровавы раны князю,
«На бѣломъ его могучемъ тѣлѣ…»
Такъ она въ Путивлѣ ранымъ-рано
На стѣнѣ стоитъ и причитаетъ:
"Вѣтръ-Вѣтрило! что ты, господине
"Что ты вѣешь, что на легкихъ крыльяхъ
"Носишь стрѣлы въ храбрыхъ воевъ лады!
"Въ небесахъ, подъ облаки бы вѣялъ,
"По морямъ кораблики лелѣялъ,
"А то вѣешь, вѣешь — развѣваешь
«На ковыль траву мое веселье…» '
Тамъ она въ Путивлѣ ранымъ-рано
На стѣнѣ стоитъ и причитаетъ:
"Ты ли, Днѣпръ мой, Днѣпръ ты мой, Славутич!
"По землѣ прошелъ ты половецкой,
"Пробивалъ ты каменныя горы!
"Ты ладьи лелѣялъ Святослава,
"До земли Кобяковой носилъ ихъ…
"Прилелѣй ко мнѣ мою ты ладу,
"Чтобъ мнѣ слезъ не слать къ нему съ тобою
«По сырымъ зарямъ на снне море!»
Рано-рано ужъ она въ Путивлѣ
На стѣнѣ стоитъ и причитаетъ:
"Свѣтлое, тресвѣтлое ты Солнце!
"Ахъ, для всѣхъ красно, тепло ты, Солнце!
"Что-жъ ты, Солнце, съ неба устремило
"Жаркій лучь на лады храбрыхъ воевъ!
"Жаждой ихъ томишь въ безводномъ полѣ,
"Сушишь-гнешь несмоченные луки,
«Замыкаешь кожанные тулы ..»
Сине море прыснуло къ полночи,
Мглой встаютъ, идутъ смерчи морскіе:
Кажетъ Богъ князь-Игорю дорогу
Изъ земли далекой половецкой
Къ золотому отчему престолу.
Погасаютъ сумерки сквозь тучи…
Игорь спитъ, не спитъ, крылатой мыслыо
Мѣритъ поле ко Донцу отъ Дона.
За рѣкой Овлуръ къ полночи свищетъ,
По коня онъ свищетъ, повѣщаетъ:
«Выходи, князь Игорь, изъ полона.»
Вѣтеръ воетъ, проносясь по степи
И шатаетъ вежи половецки;
Шелеститъ-шуршитъ ковыль высокій,
И шумитъ-гудитъ земля сырая .
Горностаемъ скокъ въ тростникъ князь Игорь
Что бѣлъ гоголь по водѣ ныряетъ,
На быстра добра коня садится;
По лугамъ Донца что волкъ несется;
Что соколъ летитъ въ сырыхъ туманахъ,
Лебедей, гусей себѣ стрѣляетъ
На обѣдъ, на завтракъ и на ужинъ.
Что соколъ летитъ князь свѣтлый Игорь,
Что сѣръ волкъ Овлуръ за нимъ несется,
Студену росу съ травы стряхая.
Ужъ лихихъ коней давно загнали.
Вранъ не каркнетъ, галчій стихнулъ говоръ
И сорочья стрекота не слышно
Только дятлы ползаютъ по вѣтвямъ,
Дятлы тектомъ путь къ рѣкѣ казуютъ,
Соловьинъ свистъ зори повѣщаетъ…
Говоритъ Донецъ: "Охъ, князь ты Игорь!
"Величанья жъ ты себѣ да добылъ,
"А Кончаку всякаго прокіятъя,
«Русской всей землѣ свѣтла веселья!»
Отвѣчалъ Донцу князь свѣтлый Игорь:
"Донче, Донче, ты ли, тихоструйный!
"И тебѣ да будетъ велнчанье,
"Что меня ты на волнахъ лелѣялъ,
"Зелену траву мнѣ стлалъ въ постелю
"На своемъ серебряномъ побрежьѣ;
"Теплой мглою на меня ты вѣялъ,
"Подъ темной зеленою ракитой;
"Сѣрой уткой сторожилъ на руслѣ,
"На струяхъ, вѣтрахъ — чиркомъ да чайкой…
"Вотъ Стугна, о Донче, не такая!
Какъ пожретъ-попьетъ ручьи чужіе,
"По кустамъ, по доламъ разольется!…
"Ростислава-юношу пожрала,
"Унесла его во Днѣпръ глубокій,
"Во темныхъ брегахъ похоронила.
"Плачетъ мать по юношѣ, по князѣ,
"Пріуныли съ жалости цвѣточки,
"Дерева съ печали приклонились.. "
Не сороки — чу! — застрекотали:
Ѣдутъ Гзакъ съ Кончакомъ въ злу погоню.
Молвитъ Гзакъ Кончаку на погони:
"Коль соколъ къ гнѣзду летитъ, урвался,
"Ужъ млада соколика не пустимъ.
"А поставимъ друга въ чистомъ полѣ,
"Разстрѣляемъ стрѣлами златыми "
И въ отвѣтъ Кончакъ ко люту Гзаку:
"Коль соколъ къ гнѣзду летитъ, урвался,
"Сокольца опутаемъ потуже
«Крѣпкой цѣпью — красною дѣвицей.»
Гзакъ въ отвѣтъ Кончаку слово молвитъ:
"Коль опутать красною дѣвицей,
"Не видать ни сокольца младого,
"Не видать ни красной намъ дѣвицы:
"А ихъ дѣтки бить почнутъ васъ въ полѣ,
"Здѣсь же, въ нашемъ полѣ половецкомъ "
Стародавнихъ былей пѣснотворецъ,
Ярослава пѣвшій и Олега,
Такъ-то въ пѣснѣ пѣлъ про Святослава:
"Тяжело главѣ безъ плечъ могучихъ,
«Горе тѣлу безъ главы разумной.»
И землѣ такъ горько было Русской
Безъ удала Игоря, безъ князя.
Анъ на небѣ солнце засвѣтило:
Игорь-князь въ землѣ ужъ скачетъ Русскоіі.
На Дунаѣ дѣвицы запѣли;
Черезъ море пѣснь отжалась въ Кіевъ.
Игорь ѣдетъ, на Боричевъ держитъ,
Ко святой иконѣ Пирогощей.
Въ селахъ радость, въ городахъ веселье;
Всѣ князей поютъ и величаютъ,
Перво — старшихъ, а за ними — младшихъ.
Воспоемъ и мы: свѣтъ-Игорь — слава!
Буй-туръ-свѣту-Всеволоду — слава!
Володиміръ Игоревичъ — слава!
Святославу Ольговичу — слава!
Вамъ на здравье, князи и дружина,
Христіанъ поборцы на поганыхъ!
Слава князьямъ и дружинѣ!
А. Майковъ.
1) Троянъ — духъ тьмы; воплощеніе ночнаго мрака и тумановъ.
2) Стягъ--знамя.
3) Т. е. четверо князей, участвовавшихъ въ походѣ.
4) Тулы — колчаны для стрѣлъ.
5) Бусъ и Шаруканъ — половецкіе ханы.
6) Они были двоюродные братья Святослава Кіевскаго; но онъ, какъ старѣйшій, былъ имъ «въ отца мѣсто».

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.
правитьVI.
правитьТатарщина. — Выгодное положеніе Духовенства, — Проповѣдь; лѣтописи, сборники. — Переводы съ греческаго. — Свѣдѣнія о природѣ. — Споры о «раѣ земномъ».
правитьСтрашное бѣдствіе постигло Русь въ первой половинѣ XIII в. и, нанеся сокрушительные, оглушающіе удары древне-русскому общественному строю, почти въ конецъ уничтожило зачатки древне-русскаго образованія, надолго превративъ лучшія и населеннѣйшія мѣста нашего отечества въ пустыни и уничтоживъ возможность того безопаснаго и мирнаго досуга, который имѣетъ такое громадное значеніе въ исторіи образованности каждаго народа. Изъ предшествовавшихъ главъ мы уже видѣли, что тѣ первые шаги, какіе сдѣланы были образозованностью на русской почвѣ, были довольно удачны, что почва для образованности оказалась удобною, что грамотность — эта первая ступень ея — легко проникла во всѣ высшіе слои общества и, распредѣляясь довольно равномѣрно по сословіямъ, одинаково возбуждала любовь къ чтенію, собиранію и переписыванію книгъ и въ духовенствѣ, и въ князьяхъ, и въ окружавшей ихъ дружинѣ. До татарщины центромъ книжности и грамотности являлся Кіевъ, стоявшій во главѣ юго-западной Руси. Значеніе Кіева продолжало возрастать даже и тогда, когда историческая жизнь древней Руси стала уклоняться отъ этого центра, съ одной стороны, болѣе къ юго-западу, съ другой — далеко на сѣверо-востокъ. Однимъ изъ важнѣйшихъ послѣдствій эпохи татарскаго владычества слѣдуетъ, конечно, считать то, что русская историческая жизнь окончательно собралась и сплотилась на сѣверо-востокѣ, около новаго центра — Москвы, а центръ древне-русской жизни и образованности — Кіевъ, былъ окончательно покинутъ и потерялъ всякое значеніе. Такая перемѣна въ направленіи русской исторической жизни, совершившаяся совершенно органически подъ тяжкимъ гнетомъ татарщины и внесенныхъ ею началъ, конечно, должна была въ первое время отозваться очень тяжко на всѣхъ проявленіяхъ умственной и нравственной жизни народа. И несмотря на то, что это сосредоточеніе жизни русской на сѣверо-востокѣ имѣло громадныя послѣдствія историческія, нельзя отрицать того несомнѣннаго факта, что собственно на образованность нашу и литературу оно, временно, оказало вліяніе пагубное и задержало ее на много вѣковъ въ періодѣ младенчества. На сколько древній удѣдьно-вѣчевой укладъ, съ его пестрою и привольною жизнью, съ его частыми усобицами и удалыми походами князей противъ Половцевъ, съ его шумною городской жизнью, развивавшеюся подъ благораствореннымъ небомъ юго-запада Руси, способенъ былъ благопріятно повліять на развитіе фантазіи, на распространеніе образованности вглубь и вширь; на столько же суровый климатъ сѣверо-востока и суровыя условія быта, сначала подъ татарскимъ игомъ, а потомъ подъ желѣзнымъ скипетромъ возникавшей и поглощавшей удѣлы Москвы, — должны были тягостно подѣйствовать на творческую силу фантазіи русскаго человѣка, и мало способствовать развитію въ немъ стремленія къ книжному ученію и къ чтенію книгъ. Не до школъ и не до книгъ было ему, когда всѣ лучшія силы его поглощались инстинктомъ самоохраненія! Да къ тому же, въ общемъ погромѣ городовъ и областей, тяжкій ударъ нанесенъ былъ нашему образованію и со стороны его матерьяльныхъ средствъ: — безвозвратно погибли десятки библіотекъ, хранившихся въ стѣнахъ церквей и монастырей, и лишь въ немногихъ мѣстахъ, и притомъ наименѣе богатыхъ книгами, уцѣлѣли остатки нашихъ начальныхъ книгохранилищъ. Слѣдовательно, книга, и до татарщины бывшая у насъ дорогою, сдѣлалась, во время ея, почти сокровищемъ, и насъ одновременно постигли двѣ бѣды: — у насъ отняты были и всѣ условія, при которыхъ образованіе и книжное ученіе могутъ развиваться успѣшно, и въ то же время уничтожены тѣ книжные запасы, которые накоплены были въ разныхъ мѣстахъ Руси трудами, любовью и усиліями цѣлыхъ поколѣній.
Нельзя упустить изъ виду и того, что когда во время и послѣ татарщины политическое тяготѣніе стало собирать Русскую землю около Москвы, направленіе и характеръ древне-русской жизни значительно измѣнились. Она перестала течь прежнею широкою и привольной волной, и видимо стала устанавливаться въ опредѣленныхъ берегахъ. И это переходное состояніе, переживаемое обществомъ, не могло не проявиться рѣзкими чертами. Лучшимъ силамъ общества на долго суждено было затрачиваться въ борьбѣ за безопасность и независимость личную, сначала отбиваясь отъ алчныхъ татаръ, потомъ противоборствуя властолюбивой Москвѣ, опиравшейся на татарскую власть и силу. Нравы грубѣли, суровый и мрачный оттѣнокъ замѣтно ложился на всѣ произведенія духа, а постоянная «привычка руководствоваться инстинктомъ самоохраненія вела къ господству всякаго рода матеріальныхъ побужденій надъ нравственными» 1). Общество русское переживало тотъ тяжкій періодъ бѣдствій, когда, но словамъ историка, «имущества гражданъ прятались въ церквахъ, какъ мѣстахъ наиболѣе, хоть и не всегда, безопасныхъ; а сокровища нравственныя имѣли нужду также въ безопасныхъ убѣжищахъ — въ пустыняхъ и монастыряхъ.
1) Соловьевъ. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ.
При такихъ условіяхъ, конечно, всякіе зачатки свѣтской литературы должны были исчезнуть, и на долго исчезнуть; и не только занятіямъ литературнымъ, но даже и самой грамотности оказалось возможно продолжать свое существованіе только внутри монастырской ограды, только въ средѣ монашества и подъ защитою Церкви.
И дѣйствительно, если Церковь русская и до татарщины была однимъ изъ главныхъ проводниковъ византійской образованности въ древне-русскомъ обществѣ, то во время татарщины ей уже положительно выпало на долю важное значеніе единственной хранительницы тѣхъ зачатковъ просвѣщенія, какіе успѣли проявиться на нашей общественной почвѣ до XIII вѣка. Такое положеніе должна была занять Церковь русская подъ татарскимъ владычествомъ отчасти уже потому, что ей одной удалось сильно подѣйствовать на умы дикихъ кочевниковъ, нахлынувшихъ отовсюду на Русь. Ихъ не могла привлечь и поразить картина осѣдлаго, гражданственнаго быта, который застали они на Руси; успѣхи ихъ оружія и быстрое завоеваніе большей части русскихъ владѣній не способны были даже внушать имъ и уваженія къ побѣжденнымъ. Но суевѣрное воображеніе полудикой орды было сильно поражено картиною религіознаго быта древней Руси: множество благолѣпно украшенныхъ храмовъ и богатыхъ монастырей, блескъ и стройность внѣшней обрядовой стороны богослуженія, опредѣленность и однообразіе религіозныхъ убѣжденій массы — все это должно было неотразимо дѣйствовать на воображеніе кочевника, стоявшаго въ религіозномъ развитіи своемъ на степени жалкаго фетишизма большей части младенчествующихъ народовъ. По всему видно, что не оружія побѣжденныхъ ими Русскихъ, не ихъ нравственнаго и умственнаго превосходства боятся могущественные ханы, а только союза ихъ съ тѣмъ неизвѣстнымъ Монголу христіанскимъ Богомъ, котораго онъ неспособенъ былъ постигнуть разумомъ, и тѣмъ болѣе склоненъ былъ бояться. Грозной являлась ему рать воиновъ Христовыхъ, облеченная во власяницы и рясы, вмѣсто всякихъ доспѣховъ, съ крестомъ и евангеліемъ въ рукахъ, вмѣсто всякаго оружія… И вотъ потому еще въ самомъ началѣ татарщины, какъ только опредѣлились отношенія побѣдителей къ побѣжденнымъ, дань была наложена на всѣ сословія, кромѣ духовенства: — духовенству же былъ данъ ярлыкъ, свидѣтельствующій объ освобожденіи его отъ дани и о тѣхъ льготахъ, которыми ханы татарскіе, очевидно, стараются задобрить, расположить въ свою пользу русское духовенство. Въ этомъ ярлыкѣ ханы обращались къ своимъ баскакамъ и князьямъ, данщикамъ и всякаго рода чиновникамъ татарскимъ съ объявленіемъ, что они дали жалованныя грамоты русскимъ митрополитамъ и всему духовенству, бѣлому и черному, дабы они п_р_а_в_ы_м_ъ с_е_р_д_ц_е_м_ъ, б_е_з_ъ п_е_ч_а_л_и, м_о_л_и_л_и Б_о_г_а з_а н_и_х_ъ и з_а в_с_е и_х_ъ п_л_е_м_я, и б_л_а_г_о_с_л_о_в_л_я_л_и и_х_ъ: не надобна съ нихъ никакая дань, никакая пошлина; никто не смѣетъ занимать церковныхъ земель, водъ, мельницъ и другихъ угодій; никто не смѣетъ брать на работу церковныхъ людей; и — что всего замѣчательнѣе и многознаменательнѣе для исторіи русскаго просвѣщенія и литературы — ,,н_и_к_т_о н_е с_м_ѣ_е_т_ъ в_з_я_т_ь, и_з_о_д_р_а_т_ь, и_с_п_о_р_т_и_т_ь и_к_о_н_ъ, к_н_и_г_ъ и н_и_к_а_к_и_х_ъ д_р_у_г_и_х_ъ б_о_г_о_с_л_у_ж_е_б_н_ы_х_ъ в_е_щ_е_й», чтобы духовные не проклинали хана, но въ покоѣ за него молились; кто вѣру ихъ похулитъ, наругается надъ нею, тотъ безъ всякаго извиненія умретъ злою смертью. Точно также угрожается смертною казнью и всякому баскаку или другому чиновнику татарскому, которому бы вздумалось взять какую-либо дань или пошлину съ русскаго духовенства.
Въ то время, когда, благодаря вышеуказаннымъ условіямъ, духовенство, въ періодъ тяжкаго для всей Руси татарскаго ига, становилось, благодаря вышеуказаннымъ условіямъ, въ такое исключительно выгодное положеніе, другія историческія условія, о которыхъ вовсе не мѣсто было бы здѣсь упоминать, способствовали совершенію въ удѣльно-вечевомъ укладѣ древней Руси того переворота, который выразился въ постепенномъ объединеніи всей земли Русской около новаго, сѣверо-восточнаго центра ея — около Москвы. Важность этого политическаго центра, конечно, должна была вскорѣ привлечь на свою сторону и тѣ лучшія силы духовныя и умственныя, которыя весьма естественно должны были сосредоточиваться и успѣшнѣе всего развиваться въ духовенствѣ, какъ въ привилегированной, нравственно и матеріально-обезпеченной средѣ. Вслѣдствіе этого Москва, съ теченіемъ времени, стала не только важнымъ политическимъ и религіознымъ центромъ (послѣ перенесенія въ нее митрополіи), но и центромъ дѣятельности литературной. Не вдаваясь однако-же въ изложеніе историческихъ подробностей того періода, въ теченіе котораго Москва, вспомоществуемая Церковью, возвышалась и стягивала около себя русскія области, мы, въ нынѣшней главѣ, постараемся обозрѣть все, что, въ теченіе этого тягостнаго и скуднаго умственною дѣятельностью періода, внесено было новаго въ нашу литературу.
Первое впечатлѣніе ужаса, наведеннаго на Русскую землю страшнымъ татарскимъ погромомъ, еще не успѣло пройти и сгладиться, какъ духовенство уже стало пользоваться имъ, какъ средствомъ для достиженія своихъ религіозныхъ цѣлей. Подобно тому, какъ еще и самъ древній монахъ-лѣтописецъ указывалъ намъ на различныя бѣдствія, а между прочимъ также и нашествія иноплеменниковъ, какъ на тяжкое наказаніе за грѣхи и невѣріе, за пристрастіе къ языческимъ обычаямъ и нетвердость въ вѣрѣ — и проповѣдники наши во второй половинѣ XIII вѣка, тотчасъ послѣ нашествія татарскаго, точно также указываютъ на него своей паствѣ, какъ на тяжкое наказаніе, ниспосланное Богомъ за грѣхи наши, какъ на кару, которая должна образумить каждаго и заставить глубже заглянуть въ себя, понудить разстаться со всѣми грѣхами своими и беззаконіями, изъ опасенія еще большихъ бѣдствій, ожидающихъ Русскую землю въ будущемъ, если бы она не покаялась и не отстала отъ «поганскихъ обычаевъ». Тема поученій въ паствѣ, слѣдовательно, и въ XIII вѣкѣ, и въ XIV, остается та же самая; даже и пріемы проповѣдниковъ — указанія на бѣдствія настоящія и на возможность будущихъ, съ цѣлью исправленія паствы — остались тѣ же. Нѣсколько измѣнился только духъ проповѣдей, подъ вліяніемъ тяжкой, кровавой современности, и потому же самому въ нѣкоторыя изъ числа ихъ внесены были довольно яркія картины, какъ видно, списанныя съ только-что пережитой дѣйствительности. Особенно богаты такими картинами поученія владимірскаго епископа С_е_р_а_п_і_о_н_а, котораго лѣтопись называетъ «зѣло учительнымъ и сильнымъ въ божественномъ писаніи», и о которомъ намъ достовѣрно извѣстно только то, что въ 1274 году, онъ, изъ архимандритовъ Кіево-печерскаго монастыря, поставленъ былъ въ епископы владимірскіе, а въ слѣдующемъ 1275 году скончался. Въ одномъ изъ тѣхъ с_е_м_и словъ, обращенныхъ къ паствѣ, которыя дошли до насъ, Серапіонъ, по поводу землетрясенія, бывшаго во Владимірѣ, указываетъ, согласно понятіямъ своего времени, на вѣщее значеніе всякихъ бѣдствій, постигающихъ Русь, и посылаемыхъ на нее Богомъ за грѣхи. Въ числѣ бѣдствій упомянуто и татарское нашествіе.
«Вы слышали, братія», — такъ говоритъ онъ въ этомъ поученіи, — «какъ самъ Господь говоритъ въ евангеліи, что и въ послѣдніе годы (существованія міра) будутъ знаменія въ солнцѣ и въ лунѣ, и въ звѣздахъ, и землетрясенія, и голодъ въ разныхъ мѣстахъ; и вотъ, тогда сказанное Господомъ нашимъ сбылось нынѣ при послѣднихъ людяхъ. Сколько разъ видѣли мы, какъ солнце затмѣвалось, и луна померкала, и звѣзды измѣняли (теченіе свое); нынѣ же пришлось намъ быть очевидцами и землетрясенія. Земля, — по повелѣнію Божію, съ самаго начала утвержденная и неподвижная, — нынѣ движется, колеблемая нашими грѣхами, и не можетъ болѣе стерпѣть на себѣ нашего беззаконія.
Мы не послушали евангелія, не послушали апостола, не послушали пророковъ, не послушали свѣтилъ великихъ — Василія (Великаго) и Григорія Богослова, и Іоанна Златоустаго, и другихъ св. святителей… И вотъ уже Богъ не устами къ намъ говоритъ, но дѣлами хочетъ насъ наставить… Землю потрясаетъ и колеблетъ, и хочетъ стряхнуть съ нея многія наши беззаконія и грѣхи, какъ листья съ дерева. Если кто скажетъ мнѣ, что и прежде этого были также потрясенія земли, то я скажу: да; но вспомните же, что потомъ съ нами было — и голодъ, и моры, и войны многія! И мы все же не покаялись, пока, по Божьему попущенію не пришелъ на насъ народъ немилостивый, и не опустошилъ земли нашей, не поплѣнилъ городовъ нашихъ, не раззорилъ святыхъ церквей, не погубилъ нашихъ отцевъ и братьевъ, не наругался надъ нашими матерями и сестрами»…
Въ другомъ поученіи своемъ, повторяя почти ту же мысль, Серапіонъ рисуетъ картину татарскаго нашествія и владычества еще болѣе живыми, еще болѣе мрачными чертами: «(Богъ), видя, что наши беззаконія умножились, видя, что мы отвергли его заповѣди… навелъ на насъ народъ немилостивый, народъ лютый, народъ нещадящій юной красоты, старческой немощи и дѣтскаго возраста. Мы навлекли на себя гнѣвъ Бога нашего… (и вотъ) разрушены были божественныя церкви, осквернены священные сосуды, потоптана святыня, святители стали жертвою меча, тѣла преподобныхъ монаховъ выброшены на съѣденіе птицамъ; кровь отцевъ и братій нашихъ, словно вода обильная, напоила землю; крѣпость князей, воеводъ нашихъ, исчезла; храбрые наши, исполнившись страха, бѣжали; множество дѣтей и братій нашихъ были отведены въ плѣнъ; села наши поросли лядиною 1) и величіе наше смирилось, красота наша погибла, богатство наше досталось на долю другимъ, трудъ нашъ наслѣдовали поганые, земля наша стала достояніемъ иноплеменниковъ; а мы сами стали предметомъ поношенія для сосѣднихъ земель и посмѣшищемъ для враговъ нашихъ. И все это потому. что, какъ дождь съ неба, свели на себя гнѣвъ Господень».
1) Л_я_д_и_н_а — небольшой лѣсокъ, выростающій на запущенной пашнѣ.
Почти то же самое повторяетъ и митрополитъ кіевскій Кириллъ II (1243—1280), поставившій Серапіона въ епископы владимірскіе, въ своемъ «Правилѣ» (составленномъ на соборѣ 1274 г. во Владимірѣ), которымъ онъ старался установить однообразіе въ богослуженіи, устранить нѣкоторые неустройства и безпорядки, вкравшіеся въ Церковь, въ горестную эпоху первыхъ лѣтъ татарскаго владычества, и наконецъ — искоренить нѣкоторые языческіе обычаи, еще весьма распространенные въ народѣ, преимущественно на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ. Предлагая «Правило» свое для установленія церковнаго и народнаго благочестія, митрополитъ Кириллъ указываетъ также всѣмъ вѣрующимъ на татарскій погромъ и понесенныя Русью бѣдствія только какъ на кару, постигшую наше отечество за грѣхи и за отступленіе отъ церковныхъ обычаевъ. Въ высшей степени интересною и характеристическою чертою современной проповѣди является еще то, что въ ней, рядомъ съ указаніями на татарское нашествіе, какъ на кару, ниспосланную Руси Богомъ за грѣхи, является впервые и напоминаніе о близости кончины міра и втораго пришествія. Весьма опредѣленное напоминаніе объ этомъ встрѣчаемъ въ одномъ изъ многихъ, дошедшихъ до насъ, поученій этого времени (Слово на соборъ Архистратига Михаила), которое приписывается тому же митрополиту Кириллу. Въ началѣ поученія своего, проповѣдникъ говоритъ о сотвореніи небесныхъ силъ, о паденіи сатаны, о сущности души человѣческой; затѣмъ излагаетъ вкратцѣ исторію ветхаго и новаго завѣта, и подробно излагаетъ то, что ожидаетъ душу человѣческую, по разлученіи съ тѣломъ, описываетъ такъ называемыя мытарства и т. д. Въ особенныц укоръ современному обществу ставятся: срамословіе, пляски на пирахъ, вечеряхъ, игрищахъ, басни ('?), всякія позорныя игры, плесканіе ручное, скаканіе ногами, вѣра въ ворожьбу, во встрѣчу, въ чиханье и другіе мелкіе предразсудки. За указаніемъ современныхъ пороковъ слѣдуетъ наставленіе духовеиству, въ которомъ проповѣдникъ говоритъ: «если вы исполните всѣ завѣты (т.-е. не нарушите заповѣдей Божьихъ и не будете участвовать въ вышеисчисленныхъ беззаконіяхъ), то Бога возвеселите, ангеловъ удивите, молитва ваша будетъ услышана отъ Бога, земля наша облегчится отъ иновѣрнаго ига бесерменскаго, милость Божія во всѣхъ странахъ земли Русской умножится, пагубы и порчи плодамъ и скотамъ перестанутъ, гнѣвъ Божій утолится, народы всей Русской земли въ тишинѣ и безмолвіи поживутъ и милость Божію получатъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ, особенно же въ будущемъ». И послѣ всѣхъ этихъ увѣщаній, проповѣдникъ все же заканчиваетъ слово свое грознымъ указаніемъ на близость кончины міра, дабы напомнить о необходимости покаянія: «уже видимо кончина міра приблизилась», — говоритъ онъ, — «и урокъ 1) житію нашему приспѣлъ, и лѣта сокращаются, — сбылось уже все сказанное Господомъ: возстанетъ бо языкъ на языкъ и т. д. Говорятъ, что по прошествіи с_е_м_и т_ы_с_я_ч_ъ л_ѣ_т_ъ п_р_и_ш_е_с_т_в_і_е Х_р_и_с_т_о_в_о б_у_д_е_т_ъ». То же самое, хотя и менѣе опредѣленное указаніе на бѣдствія, тяготѣющія надъ Русью, какъ на возвѣщающія наступленіе послѣдняго времени, мы видѣли выше, въ началѣ одной изъ проповѣдей Серапіона, и гораздо ранѣе, въ началѣ XIII вѣка, въ «Словѣ о небесныхъ силахъ и чего ради созданъ бысть человѣкъ и о исходѣ души», приписываемомъ Авраамію, игумену смоленскому (ум. 1221). Въ этомъ словѣ высказывается мысль, что «человѣкъ былъ созданъ Богомъ въ восполненіе падшихъ ангеловъ», и что «міру суждено существовать не менѣе 7,000 лѣтъ». «Въ послѣдніе эти три года седьмой тысячи Архангелы Михаилъ и Гавріилъ вострубятъ въ трубы и созовутъ на судъ всю вселенную».
1) У_р_о_к_ъ — т.-е. урочное, положенное, предназначенное время.
И такъ, за исключеніемъ весьма немногихъ, вновь прибавившихся чертъ, исключительно принадлежащихъ эпохѣ татарщины, мы видимъ, что общій характеръ русской проповѣди и въ концѣ ХІІІ-го вѣка остался тотъ же, что былъ въ XI и XII столѣтіи. Та же основа, тѣ же пріемы изложенія, тѣ же подробныя исчисленія всего, что заслуживаетъ порицанія въ общественныхъ нравахъ, и та же мораль въ концѣ проповѣди. Мало того, и въ это время, и въ теченіе двухъ послѣдующихъ вѣковъ, вѣроятно сохранилось и то рѣзкое различіе между простотою сѣверно-русской проповѣди и витіеватостью проповѣди южно-русской, какъ мы можемъ видѣть изъ дошедшей до насъ проповѣди новгородскаго владыки Симеона псковичамъ, живо напоминающей намъ приведенное выше поученіе древнѣйшаго изъ русскихъ проповѣдниковъ, Луки Жидяты: «Благородные и христолюбивые честные мужи псковичи! Сами знаете, что кто честь воздаетъ святителю, то честь эта самому Христу приходитъ, и воздающій принимаетъ отъ него награду сторицею. И вы, дѣти, честь воздавайте своему святителю и отцамъ своимъ духовнымъ со всякимъ покорствомъ и любовью, ни въ чемъ не испытывая ихъ и не прекословя имъ; на себя смотрите, самихъ себя укоряйте и судите, свои грѣхи оплакивайте; чужаго не похищайте, бѣдамъ братіи своей не радуйтесь, не мудрствуйте о себѣ и не гордитесь, но со смиреніемъ повинуйтесь своимъ отцамъ духовнымъ. Церковь Божію не обижайте, въ дѣла церковныя не вступайтесь; не вступайтесь и въ земли, и въ воды, въ суды и печать, и во всѣ пошлины церковныя, потому что всякому надобно гнѣва Божія бояться, милость Его призывать, грѣхи свои оплакивать и чужаго не брать». Если добавить къ этимъ поученіямъ нѣсколько другихъ, исключительно посвященныхъ искорененію языческихъ обрядовъ и обычаевъ, все еще сохранявшихся въ народѣ, грубыхъ суевѣрій, несовмѣстимыхъ съ христіанствомъ, то мы почти исчерпаемъ весь запасъ важнѣйшихъ темъ, входившихъ въ составъ литературной дѣятельности образованнѣйшихъ представителей нашего общества въ обозрѣваемый періодъ. Въ числѣ послѣдняго разряда поученій, замѣчательны четвертое и пятое поученіе Серапіона; въ нихъ онъ возстаетъ противъ суевѣрія народа, который приписываетъ голодъ, нѣсколько лѣтъ сряду постигавшій Суздальскую землю, наговорамъ волшебниковъ и волшебницъ, и затѣмъ порицаетъ еще другой современный обычай — запрещеніе погребать удавленниковъ и утопленниковъ, которыхъ многіе даже отрывали изъ могилъ, указывали на ихъ погребеніе, какъ на причину различныхъ народныхъ бѣдствій. Третье поученіе, относящееся къ тому же времени, драгоцѣнное по многочисленнымъ и чрезвычайно важнымъ указаніямъ на языческіе обычаи и суевѣрные обряды, принадлежитъ неизвѣстному автору и сохранилось намъ подъ заглавіемъ: «С_л_о_в_о н_ѣ_к_о_е_г_о Х_р_и_с_т_о_л_ю_б_ц_а и р_е_в_н_и_т_е_л_я п_о п_р_а_в_о_й в_ѣ_р_ѣ».
Изъ всего вышесказаннаго, а равно и изъ тѣхъ образцовъ духовной литературы XIII в., какіе были нами здѣсь приведены, мы видимъ, что, не смотря на большое загрубѣніе общественныхъ нравовъ, произведенное эпохою татарщины, задержавшей надолго и развитіе у насъ свѣтской литературы, и развитіе образованности — бытъ духовенства и его литературная дѣятельность не измѣнились ни мало подъ татарскимъ игомъ. И между тѣмъ какъ въ XIII и XIV вѣкѣ мы не встрѣчаемъ никакихъ извѣстій объ училищахъ и распространеніи грамотности въ народѣ, между тѣмъ какъ не видимъ нигдѣ въ лѣтописи извѣстій объ образованности князей и бояръ (о Димитріи Донскомъ прямо говорится, что онъ не былъ хорошо изученъ книгамъ; о Василіи Темномъ, — что онъ былъ не книженъ и не грамотенъ) — въ духовенствѣ, благодаря исключительно-благопріятнымъ условіямъ, въ которыя оно было поставлено, сохраняется прежняя любовь къ книжному ученію, къ собиранію и переписыванью книгъ, къ составленію сборниковъ, къ пересажденію греческихъ произведеній на русскую почву. Лѣтописи сохранили намъ кромѣ свѣдѣній о дѣятеляхъ, намъ извѣстныхъ по дошедшимъ до насъ произведеніямъ, много и другихъ именъ м_у_ж_е_й з_ѣ_л_о к_н_и_ж_н_ы_х_ъ и у_ч_и_т_е_л_ь_н_ы_х_ъ, которыхъ сочиненія не дошли до насъ. Такъ напр., намъ остались совершенно неизвѣстными сочиненія К_и_р_и_л_л_а, епископа ростовскаго (1231—1262), и С_и_м_е_о_н_а, епископа тверскаго (ум. 1289), и А_в_р_а_а_м_і_я, игумена смоленскаго, хотя свѣдѣнія, сохраняющіяся о преподобномъ Аврааміи въ его житіи, представляютъ намъ его человѣкомъ во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчательнымъ. Въ этомъ житіи, составленномъ ученикомъ Авраамія, Ефремомъ, Авраамій является намъ горячимъ и краснорѣчивымъ проповѣдникомъ, котораго стекались слушать всѣ граждане города; онъ умѣлъ такъ вразумительно и ясно истолковывать своей паствѣ Св. Писаніе, что его одинаково понимали люди всѣхъ сословій и всѣхъ возрастовъ. Въ то же время занимался онъ и живописью, въ которой любимымъ сюжетомъ его было изображеніе страшнаго суда и странствованій души по мытарствамъ. Въ связи съ этимъ исключительно, мистическимъ направленіемъ, выражавшимся и въ живописныхъ произведеніяхъ Авраамія, стоитъ, вѣроятно, и взведенное на него современнымъ духовенствомъ обвиненіе въ томъ, что онъ «читаетъ еретическія г_л_у_б_и_н_н_ы_я книги» — обвиненіе, вынудившее его даже искать спасенія отъ преслѣдованій въ бѣгствѣ. Само собою разумѣется, что чѣмъ далѣе углубляемся мы въ XIII вѣкъ, тѣмъ болѣе замѣчаемъ, что дѣятельность литературная сосредоточивается исключительно въ средѣ монашества, отдѣленнаго отъ мірскихъ треволненій толстыми стѣнами монастырской ограды и защищеннаго отъ бѣдствій татарщины милостивыми ярлыками могущественныхъ хановъ. Монастырская литература, не прекращаясь, продолжаетъ свое существованіе въ монастыряхъ сѣверо-восточной Руси, и въ томъ-же видѣ, въ какомъ она зачалась въ монастыряхъ Руси юго-западной. Житіе и лѣтопись являются и здѣсь главными литературными родами, надъ которыми въ тишинѣ и уединеніи трудятся авторы-монахи. Житія, извѣстныя уже и прежде, старательно переписываются; накопляется матерьялъ и для написанія новыхъ, сѣверно-русскихъ житій, которыми такъ богата оказалась наша литература XV вѣка. Продолжаются по прежнему и лѣтописи, почти всюду, гдѣ они велись прежде. Сверхъ того, ведутся лѣтописи новыя въ Твери и въ Ростовѣ; а около половины ХІV вѣка зачинается, наконецъ, и лѣтопись великаго княжества московскаго, въ которой даваемо было мѣсто событіямъ и не московскимъ, но подробнѣе и тщательнѣе заносимы были событія собственно московскія, Однако-же, тягостная эпоха татарщины и новыя историческія условія быта въ сѣверо-восточной Руси наложили свою особую печать на эту новую сѣверную, монастырскую лѣтопись. Г. Соловьевъ прекрасно характеризуетъ эту лѣтопись въ своей исторіи. «Въ лѣтописи сѣверной» — говоритъ онъ — "нѣтъ болѣе живой драматической формы разсказа, къ какой историкъ привыкъ въ южной лѣтописи; въ сѣверной лѣтописи дѣйствующія лица дѣйствуютъ молча: воюютъ, мирятся, но ни сами не скажутъ, не лѣтописецъ отъ себя не прибавитъ, за что воюютъ, вслѣдствіе чего мирятся; въ городѣ, на дворѣ княжескомъ ничего не слышно, все тихо; всѣ сидятъ, запершись, и думаютъ думу про себя; отворяются двери, выходятъ люди на сцену, дѣлаютъ что нибудь, но дѣлаютъ молча. Конечно, здѣсь выражается характеръ эпохи, характеръ цѣлаго народонаселенія, котораго дѣйствующія лица являются представителями: лѣтописецъ не могъ выдумывать рѣчей, которыхъ онъ не слыхалъ; но съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что самъ лѣтописецъ не разговорчивъ, ибо въ его характерѣ отражается также характеръ эпохи, характеръ цѣлаго народонаселенія; какъ современникъ, онъ зналъ подробности любопытнаго явленія и, однако, записалъ только, что «много нѣчто нестроенія бысть».
Кромѣ веденія лѣтописей, кромѣ собиранія матерьяловъ по составленію сѣверно-русскаго патерика, въ стѣнахъ монастырей продолжали, по прежнему, переписывать оригинальныя русскія и переводныя съ греческаго произведенія предшествовавшихъ вѣковъ — XI, XII и XIII. Такъ отъ XIV столѣтія дошли до насъ два замѣчательныхъ сборника поученій и другихъ статей: «Паисіевскій» и «Златая Цѣпь» 1). Послѣдній сборникъ въ особенности замѣчателенъ тѣмъ, что онъ представляетъ собою оригинальное русское произведеніе, р_у_с_с_к_у_ю «З_л_а_т_у_ю Ц_ѣ_п_ь», которую не слѣдуетъ смѣшивать съ византійскими сборниками того же имени. «Эта рукопись Златой Цѣпи есть не п_е_р_е_в_о_д_ъ съ греческаго оригинала, носящаго тоже названіе, а самостоятельный сборникъ, въ который вошли частію переводныя, частію же собственно-русскія статьи». Поученія З_л_а_т_о_й Ц_ѣ_п_и представляютъ собою даже рядъ проповѣдей, говоренныхъ однимъ и тѣмъ же русскимъ проповѣдникомъ и притомъ передъ паствою, недавно просвѣщенною христіанствомъ.
1) По замѣчанію проф. Тихонравова, «Златоустами» или «Златыми Цѣпями» назывались сборники словъ на св. Четыредесятницу, которые стояли въ тѣсной связи съ И_з_м_а_р_а_г_д_а_м_и. «Мнѣ случилось видѣть — говоритъ г. Тихонравовъ — „рукопись Златоуста XVI в.“, озаглавленную словами „Златая Цѣпь“.
Нельзя не обратить вниманія на нѣкоторыя произведенія XIV вѣка, особенно характерно отражающія на себѣ состояніе умовъ въ современномъ обществѣ. Такъ, напримѣръ, нельзя не отмѣтить одного перевода съ греческаго, который въ такой степени обратилъ на себя вниманіе грамотныхъ современниковъ, что даже въ лѣтописи, подъ 1384 годомъ, находимъ упоминаніе о немъ. То было одно изъ многихъ поэтическихъ твореній византійскаго писателя Георгія Писида (жившаго въ VII в.), подъ заглавіемъ „Мірозданіе“. На русскій языкъ оно переведено было какимъ-то Дмитріемъ Зографомъ или Зоографомъ (т. е. живописцемъ) и озаглавлено такъ: „Похвала Богу о сотвореніи всякоіі твари“. Въ произведеніи этомъ описываются „шесть дней творенія“ — одна изъ любимѣйшихъ темъ у византійскихъ духовныхъ поэтовъ.

Въ византійской литературѣ видимъ мы цѣлый рядъ „Ш_е_с_т_о_д_н_е_в_о_в_ъ“, представляющихъ собою нѣчто въ родѣ толкованій на Книгу Бытія. Въ эти толкованія вносились баснословные разсказы о животныхъ, птицахъ, камняхъ, о различныхъ силахъ и явленіяхъ природы. Животныя получали при этомъ чисто-символическое значеніе, и христіанскіе поэты начальной эпохи обращали на нихъ вниманіе не ради того естественно-историческаго интереса, который они могли представлять, а потому, что они „при сотвореніи вселенной были живыми свидѣтелями всемогущества и премудрости Господа“. Такіе Шестодневы стояли въ тѣсной связи съ особымъ видомъ сборниковъ, извѣстныхъ въ средневѣковой литературѣ подъ именемъ ф_и_з_і_о_л_о_г_о_в_ъ, и уже рано перенесенныхъ на почву русскую. Въ составъ физіологовъ входили исключительно или сказанія о животныхъ и птицахъ баснословныхъ, въ родѣ грифона или н_о_г_ъ-п_т_и_ц_ы, хорадра, феникса, дракона и т. д., или „описанія тѣхъ рыбъ, птицъ, животныхъ, которыя въ христіанской литературѣ получили символическій смыслъ, которыя были Предметомъ аллегоріи и примѣненій къ истинамъ христіанскаго вѣроученія“. Ф_и_з_і_о_л_о_г_и оказали весьма сильное вліяніе на литературу народную, а также и на христіанское искусство, которое такъ долго находилось подъ исключительнымъ вліяніемъ Церкви. Вдохновенные ф_и_з_і_о_л_о_г_а_м_и, художники украшали зміями и грифонами заголовки рукописей, иконописцы заносили изображенія символическихъ животныхъ на иконы, а зодчіе покрывали стѣны храмовъ изсѣченными въ камнѣ изображеніями сиренъ, крылатыхъ львовъ и драконовъ. Этимъ значеніемъ ф_и_з_і_о_л_о_г_о_в_ъ отчасти и поясняется то, „почему за переводъ поэмы Георгія Писида принялся Зоографъ (т. е. живописецъ) и почему появленіе этого важнаго комментарія къ иконописному искусству отмѣчено было благочестивымъ лѣтописцемъ“ 1).
1) См. статью Тихонравова въ Отчетѣ объ Уваровской преміи 1878, стр. 59.
Отъ половины того же вѣка намъ сохранился памятникъ въ высшей степени замѣчательный уже потому, что отчетливо и ярко очерчиваетъ намъ тотъ кругъ понятій о природѣ и ту степень религіозно-нравственнаго развитія, на которой стояли въ это время лучшіе люди русской интеллигенціи, высшіе представители духовнаго, слѣдовательно, наиболѣе грамотнаго и развитаго сословія. Памятникъ этотъ — знаменитое посланіе новгородскаго архіепископа Василія къ тверскому епископу Ѳеодору „О земномъ раѣ“. Посланіе это было написано по поводу споровъ, возбуждавшихся въ средѣ тверскаго духовенства о томъ: ;,уцѣлѣлъ-ли еще на землѣ земной рай, насажденный Богомъ для Адама, или уже не существуетъ болѣе рай земной, а только мысленный?» Архіепископъ Василій (былъ возведенъ въ санъ архіепископа въ 1330; умеръ въ 1352), прозывавшійся Калѣкой — человѣкъ, повидимому, бывалый и много видѣвшій на своемъ вѣку — сильно возстаетъ въ своемъ посланіи противъ мнѣнія епископа Ѳеодора и другихъ тверичей, будто рай дѣйствительный, земной не сохранился болѣе на землѣ. Различными доводами старается онъ при этомъ доказать, что на о-стокѣ несомнѣнно сохранился насажденный Богомъ для Адама «земной рай», а на западѣ — адъ. Въ числѣ доводовъ своихъ приводитъ онъ между прочимъ и разсказы новгородскихъ, путешественниковъ. Памятникъ этотъ важенъ въ историко-литературномъ отношеніи, и мы его цѣликомъ приводимъ здѣсь.
Въ поясненіе къ нему мы должны замѣтить, что подобныя же сказанія «о земномъ раѣ», существующемъ гдѣ-то далеко на Востокѣ — были распространены и въ западныхъ литературахъ и повторялись даже путешественниками XV вѣка. Такъ одинъ изъ нихъ, Іоаннъ де-Гезе (de Hese, въ 1489 г.), описывая какой-то островъ въ Индіи, ,даетъ описаніе рая, весьма сходное съ тѣмъ, которое находимъ въ посланіи архіепископа Василія. «Этотъ островъ», — говоритъ де-Гезе, — «имѣлъ прелестный видъ и изобиловалъ прекраснѣйшими деревьями и плодами; воздухъ оглашался пріятнымъ пѣніемъ множества птицъ. Мы были тамъ, какъ намъ казалось, около трехъ часовъ, но когда возвратилисъ на корабль, то товарищи наши сказали намъ, что мы пробыли тамъ три дня и три ночи. Островъ этотъ называется R_a_d_i_x p_a_r_a_d_y_s_i (корень рая)». Затѣмъ путешественникъ описываетъ на томъ-же островѣ громадную гору, называемую E_d_u_m, чрезвычайно крутую и кругообразную, на подобіе башни; взойти на нее невозможно. На вершинѣ этой-то горы и находится з_е_м_н_о_й р_а_й. Вечеромъ, когда солнце заходитъ за эту гору, бываетъ видна даже стѣна рая, весьма прозрачная и красивая, блескомъ подобная звѣздамъ. При дальнѣйшемъ описаніи путешествія, тотъ-же авторъ гдѣ-то, на краю моря, находитъ и Ч_и_с_т_и_л_и_щ_е, расположенное на каменистомъ и мрачномъ островѣ. Три дня пробыли около него путешественники, прислушиваясь къ крикамъ и воплямъ душъ, и все время служили службы по усопшимъ. На третій день, когда служба кончилась, услышанъ былъ гласъ съ острова: «слава Всемогущему Богу за эти три дня службы: они освободили три души изъ Чистилища».
Посланіе архіепископа новгородскаго Василія ко владыкѣ тверскому Ѳеодору.
правитьВасилій, милостью Божьею архіепископъ новгородскій, священному епископу Ѳеодору тверскому, брату о Господѣ.
Благодать и миръ отъ Бога Отца Вседержителя твоему священству и всему священному собору, игуменамъ, іереямъ и дѣтямъ твоимъ. Такъ какъ смиреніе наше и святой соборъ священный, игумены и іереи, узнали о томъ, что учинилось у васъ въ Твери промежду васъ, людей Божіихъ, поспѣшеніемъ и по совѣту діавола и лихихъ людей, — (мы слышали о распрѣ, бывшей у васъ по поводу того честного рая) — я и провелъ много дней въ изысканіи исправленія божественнаго закона, и вотъ пишу тебѣ, ибо мы, братъ, должны, по Божію по-велѣнію, другъ другу каяться о божественныхъ писаніяхъ, переданныхъ намъ отъ св. апостоловъ и великихъ святителей; и какъ тѣ св. апостолы безпрестанно посылали другъ другу посланія, такъ и намъ слѣдуетъ дѣлать: мы поставлены на ихъ мѣсто — кто къ чему призванъ, тотъ пусть въ томъ и пребываетъ.
Слышалъ я, братъ, что ты повѣствуешь: «рай, въ которомъ былъ Адамъ, не существуетъ болѣе»; ну а мы, братъ, не слыхали о томъ, чтобы онъ уничтожился, и въ писаніи нигдѣ не нашли о томъ святомъ раѣ; но всѣ мы знаемъ изъ святаго Писанія, что Богъ насадилъ рай на востокѣ, въ Эдемѣ, и ввелъ въ него человѣка и заповѣдалъ ему, сказавъ: «если соблюдешь слово мое, то будешь живъ; если-же не соблюдешь его, то да умрешь смертью и да внидешь въ ту же землю, отъ которой ты взятъ». Онъ же (т. е. человѣкъ) преступилъ заповѣдь Божію и былъ изгнанъ изъ рая, и горько оплакивалъ его, восклицая: «о рай пресвѣтлый, для меня насажденный и затворенный изъ-за Евы! Помоли Того, кто сотворилъ тебя и меня создалъ, дабы мнѣ еще пришлось насытиться отъ цвѣтовъ твоихъ». Тогда сказалъ ему Спасъ: «не хочу погубить созданнаго Мною, а только спасти и привести въ истинный разумъ»; — и обѣщалъ ему, что онъ еще разъ войдетъ въ рай… Въ Пареміи же именуются и четыре рѣки, идущія изъ рая: Тигръ, Нилъ, Фисонъ, Евфратъ съ востока. Нилъ же подъ Египтомъ, ловятъ въ немъ силолои (?), течетъ съ высокихъ горъ, которыя (простираются) отъ земли и до неба, а мѣсто то непроходимо для людей, а на верху его Рахмане 1) живутъ. А вотъ же, братъ, въ Прологѣ, для всѣхъ очевидно, въ чудесахъ св. Архангела Михаила, что онъ, взявъ праведнаго Еноха, посадилъ его въ честномъ раю; да вотъ и Илія святой въ раю же сидитъ, — находилъ его тамъ и Агапій святой, и часть хлѣба (у него) взялъ; а св. Макарій жилъ даже за 20 поприщъ отъ св. рая; и Евфросинъ святой былъ въ раю и три яблока принесъ изъ рая и далъ игумену своему Василію, и отъ нихъ даже было много исцѣленій. И теперь, братъ, тебѣ представляется (рай) мысленнымъ! — но все мысленное представляется видѣніемъ; а то, что Христосъ сказалъ въ евангеліи о второмъ пришествіи — и то вы ужъ не называете ли мысленнымъ? Тѣмъ, которые будутъ по правую руку отъ Него, Онъ скажетъ: «прійдите, благословенные Отцемъ Моимъ, наслѣдуйте царствіе, приготовленное вамъ прежде сотворенія міра»; а тѣмъ, что будутъ по лѣвую руку отъ Него, скажетъ: «отойдите отъ Меня, проклятые, въ вѣчный огонь, приготовленный дьяволу и его ангеламъ; не вамъ» — скажетъ — «приготовилъ Я тѣ мученія, но діаволу и его ангеламъ». О тѣхъ двухъ мѣстахъ Іоаннъ Златоустъ сказалъ: «насадилъ Богъ рай на востокѣ, а на западѣ приготовилъ мученія; такъ точно, какъ во дворѣ царскомъ утѣхи и веселье, а внѣ двора — темница». А вотъ что говоритъ священномученикъ Патрикѣй: «два мѣста приготовлены (Богомъ): одно исполнено благъ, а другое — тьмы и огня». Но не дозволено Богомъ, братъ мой, чтобы люди могли видѣть святой рай, а муки и доселѣ (еще можно видѣть) на западѣ; многіе изъ дѣтей моихъ Новгородцевъ тому свидѣтелями: на дышущемъ морѣ (видѣнъ) червь неусыпающій, (слышенъ) скрежетъ зубовъ и (течетъ) рѣка молненная Моргъ; видно даже, какъ вода входитъ въ преисподнюю и вторично выходитъ изъ нея три раза въ день. И если всѣ тѣ мѣста мученій не пропали, то скажи мнѣ, братъ, какъ бы могло исчезнуть это святое мѣсто (т.-е. рай), въ которомъ Пречистая Богородица и множество святыхъ (пребываютъ), которые, по воскресеніи Господнемъ, явились многимъ въ Іерусалимѣ, и потомъ снова возвратились въ рай? Ибо имъ было сказано: "пламенное оружіе уже не охраняетъ болѣе эдемскихъ воротъ; ибо пришелъ мой Спасъ, восклицая къ вѣрнымъ: «входите снова въ рай!» А вотъ еще, братъ, въ Влажен-нѣ сказано: «врагъ, ради древесной снѣди (т.-е. плода), Адама вывелъ изъ рая, а Христосъ крестомъ ввелъ въ него разбойника». Когда же приближалось представленіе Владычицы нашей Богородицы, ангелъ, въ образѣ воробья, принесъ ей вѣтвь изъ рая, указывая этимъ, гдѣ ей (надлежитъ) быть; а ежели рай мысленный, то зачѣмъ же эту вѣтвь принесъ ей ангелъ, а не мысленную? Ту вѣтвь и апостолы видѣли, и множество невѣрныхъ жидовъ. Ни одно изъ дѣлъ Божіихъ, братъ мой, не можетъ быть тлѣнно; всѣ дѣла Божіи — нетлѣнны. Я собственными глазами видѣлъ, братъ, что вотъ какъ затворилъ своими руками Христосъ городскія ворота (въ Іерусалимѣ), идучи на добровольное мученіе, такъ ихъ и до сихъ поръ отворить не могутъ; а какъ Христосъ постился надъ Іорданомъ, такъ я своими глазами (и нынѣ) видѣлъ его постницу, и тѣ сто финиковыхъ деревьевъ, которыя Христосъ насадилъ, и до нынѣ стоятъ недвижимы, не погибли, не погнили 2). Или, можетъ быть, ты, братъ, думаешь про себя: коли Богъ на востокѣ насадилъ рай, такъ какъ же это въ Іерусалимѣ отыскалось тѣло Адамово? Такъ развѣ же ты не знаешь, братъ, службу ангельскую, какъ скоро они ее совершаютъ: служатъ Богу безъ произнесенія рѣчей, во мгновенія ока переносятся черезъ всю землю и перелетаютъ черезъ всѣ небеса? Богу возможно Адама единымъ словомъ изъ рая перенести въ Іерусалимъ. Такъ Херувиму повелѣлъ онъ охранять эдемскія ворота, а когда Адамъ воскресъ, то повелѣлъ ему вступить въ рай, и множеству святыхъ вмѣстѣ съ нимъ — и слово, и исполненіе у него быстро слѣдуютъ одно за другимъ.
1) Это мѣсто, по мнѣнію нашихъ ученыхъ, Буслаева и Тихонравова, указываетъ на то, что архіепископу Василію было извѣстно одно изъ весьма распространенныхъ у васъ въ древности апокрифическихъ сочиненій, извѣстное подъ заглавіемъ: «Х_о_ж_д_е_н_і_е З_о_с_и_м_ы в_ъ р_а_й к_ъ б_л_а_ж_е_н_н_ы_м_ъ Р_а_х_м_а_н_а_м_ъ». Обдумывая вопросъ о земномъ раѣ, Василій очевидно и прочелъ по этому вопросу все, что у него было подъ руками. «Горы, идущія отъ земли и до неба», непроходимыя для людей и служащія мѣстопребываніемъ Рахманамъ, заимствованы имъ изъ «Хожденія Зосимы», въ которомъ мѣсто горъ заступаетъ «стѣна облачная», сквозь которую не проходитъ «ни птица, ни духъ вѣтренъ, ни солнце, ни превабитель (т. е. соблазнитель) дьяволъ».
2) Извѣстно, что архіепископъ Василій, до возведенія въ этотъ санъ, предпринималъ путешествіе въ Святую Землю; потому и говоритъ онъ здѣсь о Іерусалимѣ, какъ очевидецъ. Не потому ли было придано ему и самое прозвище его? Странникамъ въ Св. Землю очень часто придавалось въ древней Руси прозваніе «каликъ» или «каликъ-перехожихъ».
А то мѣсто св. рая находилъ и Моиславъ Новгородецъ съ сыномъ своимъ Яковомъ; всѣхъ ихъ было три юмы, и одна изъ нихъ погибла послѣ долгихъ блужденій; а двѣ другія потомъ долго носило вѣтромъ и принесло къ высокимъ горамъ. И видѣли они, что на той горѣ чудной лазурью написанъ Деисусъ удивительно громадный по размѣру, какъ бы не человѣческими руками сотворенный, но Божьею благодатью; и свѣтъ въ томъ мѣстѣ былъ самосіянный, такой, что человѣку и не пересказать: и долго оставались они на томъ мѣстѣ, а солнца не видѣли, хотя свѣтъ былъ и сильный, болѣе сильный, нежели свѣтъ солнца; а на тѣхъ горахъ слышны были многія ликованія и веселые голоса. И повелѣли они одному изъ друзей своихъ взойти по шеглѣ (бревно съ зарубами) на ту гору, дабы посмотрѣть, что это за свѣтъ, и откуда несутся эти ликующіе голоса; и когда онъ взошелъ на ту гору, то всплеснулъ руками и засмѣялся, и побѣжалъ отъ друзей своихъ по направленію къ голосу. Они же очень тому удивились, и послали другаго, наказавъ ему, чтобы онъ къ нимъ возвратился и сказалъ, что тамъ такое на горѣ; но и тотъ сдѣлалъ то-же самое: и не думалъ возвратиться къ нимъ, а съ великою радостью побѣжалъ отъ нихъ прочь. Тогда они перепугались, и начали раздумывать про себя, говоря: «если бы даже и смерть приключилась, а все же намъ слѣдовало бы видѣть свѣтлость этого мѣста» — и послали третьяго на гору, привязавъ его за ногу веревкой, и тотъ, также хотѣлъ сдѣлать (какъ первые два), радостно всплеснулъ руками и побѣжалъ, забывъ въ радости о веревкѣ на ногѣ своей; а они и сдернули его веревкой, и онъ оказался мертвымъ. Тогда они побѣжали (на лодьяхъ своихъ) обратно; не дано имъ было болѣе видѣть ту неизреченную свѣтлость, ни слышать тамошняго веселія и ликованія; а тѣхъ мужей, братъ мой, еще и понынѣ дѣти и внучата живутъ въ добромъ здоровьѣ.


VІІ.
правитьЛѣтописныя повѣсти и сказанія. — Рязанское сказаніе о нашествіи Батыя. — Задонщина.
правитьСобираясь перейти къ обзору нѣкоторыхъ литературныхъ родовъ, получившихъ преимущественное развитіе въ XIV вѣкѣ, мы должны будемъ сказать нѣсколько словъ объ особомъ значеніи монастырей на нашемъ русскомъ сѣверо-востокѣ.
Тамъ, около новаго центра русской политической жизни, являются и новые центры жизни духовной и умственной. Какъ около Кіева явился столь замѣчательный въ исторіи нашего просвѣщенія и литературы монастырь Кіево-печерскій, воспитавшій въ стѣнахъ своихъ Ѳеодосія, Нестора, Поликарпа и Серапіона, такъ и около молодой, еще не окрѣпшей, Москвы явился монастырь Троицкій, основанный св. Сергіемъ. Изъ него-то, какъ изъ центра, сильными лучами, во всѣ стороны, разошлись колоніи сподвижниковъ и учениковъ св. Сергія, основавшихъ множество новыхъ монастырей по всему лицу земли Русской. Не вдаваясь въ подробности исторіи нашихъ монастырей, мы должны однако замѣтить, что монастыри наши на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Руси имѣли нѣсколько особый, отдѣльный отъ южно-русскихъ монастырей характеръ. Среди непроходимыхъ болотъ и пустынь, среди дремучихъ лѣсовъ они почти всюду являлись проводниками цивилизаціи и новыхъ началъ жизни гражданственной. Вотъ почему, вѣроятно уже очень рано, монастыри пріобрѣтаютъ у насъ важное значеніе политическое, и духовные дѣятели, стоящіе во главѣ ихъ, вскорѣ начинаютъ оказывать немаловажное вліяніе на общій ходъ государственной жизни. Уже со второй половины XIV вѣка, св. Сергій и подобные ему подвижники начинаютъ вступаться въ междукняжескіе раздоры являются смиренными примирителями необузданныхъ политическихъ страстей или твердыми увѣщателями въ борьбѣ противъ татаръ. Отсюда-то, начиная съ конца XIV вѣка, видимъ даже цѣлый особый родъ литературы духовной — проповѣдь п_о_л_и_т_и_ч_е_с_к_у_ю, въ видѣ посланій духовныхъ лицъ къ князьямъ. Этотъ родъ, вмѣстѣ съ проповѣдью обличительной и полемической, направленной противъ ересей, особенно развивается у насъ въ XV вѣкѣ, и потому будетъ еще разсмотрѣнъ нами въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, такъ какъ эту главу намъ прійдется посвятить обозрѣнію нѣкоторыхъ любопытныхъ особенностей нашей литературы, современной татарскому періоду.
Въ числѣ этихъ особенностей, въ литературѣ исторической являются с_к_а_з_а_н_і_я о_б_ъ о_т_д_ѣ_л_ь_н_ы_х_ъ и_с_т_о_р_и_ч_е_с_к_и_х_ъ л_и_ц_а_х_ъ и о_б_ъ о_т_д_ѣ_л_ь_н_ы_х_ъ с_о_б_ы_т_і_я_х_ъ, которыя обращали на себя преимущественное вниманіе современниковъ по важности своего значенія или поражали ихъ воображеніе какими нибудь чудесными, необычайными обстоятельствами. Сказанія написаны, по большей части, современниками, очевидцами и участниками въ описываемыхъ событіяхъ. Они сохраняютъ драгоцѣнныя для исторіи подробности событій и не менѣе драгоцѣнныя воззрѣнія. Къ такимъ сказаніямъ принадлежатъ многіе разсказы первоначальной лѣтописи, преимущественно сказанія о Борисѣ и Глѣбѣ, объ ослѣпленіи Василька 1). Послѣдующія лѣтописи представляли также много отдѣльныхъ сказаніи: напр., сказаніе объ убіеніи Андрея Боголюбскаго, о распрѣ его братьевъ съ племянниками, о походѣ Игоря на Половцевъ, о Липицкой битвѣ, о битвѣ при Калкѣ, о нашествіи Батыя и т. д. Сказанія эти, впрочемъ, не только вставлялись въ лѣтописи, но появлялись въ видѣ отдѣльныхъ статей и въ сборникахъ, подъ различными названіями: п_о_в_ѣ_д_а_н_і_й, п_о_в_ѣ_с_т_е_й, с_к_а_з_а_н_і_й и с_л_о_в_ъ. Особенно возросло число этихъ сказаній послѣ татарскаго погрома. Главною темою и главными сюжетами всѣхъ этихъ произведеній являлись на сѣверо-востокѣ отношенія къ ордѣ и борьба съ татарами; на сѣверо-западѣ — борьба Новгорода и Пскова съ нѣмцами, Литвою и шведами. Не только самая форма этихъ о_т_д_ѣ_л_ь_н_ы_х_ъ сказаній, но и способъ изложенія въ нихъ — очень замѣчательны: они являются уже чисто-литературными произведеніями, въ которыхъ выражается сознательное желаніе извѣстнымъ образомъ освѣтить, восхвалить, украсить цѣлымъ рядомъ подробностей нѣкоторый историческій фактъ или рядъ фактовъ, относящихся къ жизни извѣстнаго лица. При этомъ авторы сказаній явно заботятся объ украшеніи своего разсказа, о преувеличеніи качествъ въ описываемыхъ ими герояхъ: вотъ почему самыя сказанія эти получили совершенно вѣрное наименованіе сказаній у_к_р_а_ш_е_н_н_ы_х_ъ. Въ нихъ дѣйствительно все у_к_р_а_ш_е_н_о: и событія украшены сверхъестественными подробностями, и лица украшены такими качествами и добродѣтелями, какими, въ совокупности, едва-ли обладалъ кто-либо изъ смертныхъ. Вотъ, напримѣръ, какъ сочинитель «С_к_а_з_а_н_і_я о в_е_л_и_к_о_м_ъ к_н_я_з_ѣ А_л_е_к_с_а_н_д_р_ѣ Н_е_в_с_к_о_м_ъ», современникъ и приближенный ему человѣкъ, слышавшій отъ него самого разсказъ о Невской битвѣ, описываетъ своего героя. Въ началѣ сказанія онъ говоритъ, что собирается разсказывать «о великомъ князѣ нашемъ Александрѣ Ярославичѣ, объ умномъ, кроткомъ, и смысленномъ, и храбромъ соименникѣ царя Александра Македонскаго, подобномъ крѣпостью и храбростью царю А_л_е_в_х_ы_с_у (Ахиллесу)». Затѣмъ, подкрѣпивъ «грубый умъ свой и слабыя силы молитвою къ Пресвятой Богородицѣ», авторъ разсказываетъ о происхожденіи Александра Невскаго отъ благочестивыхъ и боголюбивыхъ родителей и такъ обрисовываетъ его внѣшность: «ростомъ онъ былъ больше всѣхъ другихъ людей, голосъ его раздавался въ народѣ, какъ труба, а лицо у него было, какъ у Іосифа Прекраснаго, а сила его равнялась половинѣ силъ Сампсоновыхъ; и далъ ему Богъ Соломонову премудрость, а храбрость римскаго царя Е_у_с_п_а_с_ь_я_н_а (Веспасіана)». Это сравненіе лицъ историческихъ русскихъ, по чертамъ лица и характера, съ лицами библейскими или съ героями классической древности (на сколько она, по отрывкамъ византійскихъ сказаній, была извѣстна русскимъ книжникамъ) сближаетъ эти сказанія съ множествомъ подобныхъ же произведеній западной средневѣковой литературы, «также написанныхъ монахами-книжниками. Далекіе отъ волненій дѣйствительной жизни, исключительно преданные изученію св. писанія и немногихъ другихъ книгъ своего небольшаго монастырскаго книгохранилища, они изъ него-то и вынуждены почерпать образы для своего поэтическаго вдохновенія, такъ какъ жизнь внѣмонастырская для нихъ не существуетъ, а та, — среди которой они живутъ въ стѣнахъ своей обители, — можетъ настроить ихъ воображеніе только на одинъ религіозно-нравственный ладъ.
1) Бестужевъ-Рюминъ, „Русская Исторія“, ч. I, 37—33.

Любопытнѣйшимъ изъ этихъ сѣверо-западныхъ украшенныхъ сказаній нашихъ является конечно — Р_у_к_о_п_и_с_а_н_і_е М_а_г_н_у_ш_а, к_о_р_о_л_я с_в_ѣ_й_с_к_а_г_о. Основою ему послужилъ дѣйствительный историческій фактъ. Шведскій король, Магнусъ Эриксонъ, предпринималъ крестовый походъ противъ Новгорода; походъ Магнуса, сначала грозившій большою опасностью новгородцамъ и православію, не удался; и на родинѣ Магнуса ожидали неудачи и бѣдствія: онъ вовлеченъ былъ въ междоусобную войну со своими сыновьями, потомъ свергнутъ вельможами съ престола и, послѣ пятилѣтняго томленія въ плѣну, скончался въ Норвегіи, въ 1374 г. Эта историческая основа, вѣроятно, поразила трагическою стороною дѣйствительности современныхъ новгородскихъ книжниковъ, которымъ, конечно, при ихъ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Швеціею, стали вскорѣ извѣстны всѣ обстоятельства жизни нѣкогда грознаго для нихъ Магнуса. И вотъ въ Новгородѣ составлено было „Р_у_к_о_п_и_с_а_н_і_е М_а_г_н_у_ш_а“. Въ немъ, въ формѣ русскихъ завѣщаній, Магнусъ разсказываетъ всю свою жизнь и бѣдствія, постигшія его будто бы за то, что онъ преступилъ противъ Новгорода крестное цѣлованіе, и даетъ совѣты дѣтямъ своимъ, чтобы они не воевали съ Новгородомъ, если не хотятъ подвергнуться такимъ же бѣдамъ и напастямъ.
„Я, Магнусъ, король шведскій, нареченный во св. крещеніи Григорій, отходя отъ свѣта сего, пишу рукописаніе при жизни своей, и приказываю своимъ дѣтямъ, своей братьѣ и всей землѣ шведской: не наступайте на Русь на крестномъ цѣлованіи, потому что намъ не удается“. (За этимъ слѣдуетъ перечисленіе всѣхъ неудачныхъ шведскихъ походовъ на Русь, начиная отъ Биргера, сражавшагося съ Александромъ Невскимъ, до самаго Магнуса). „Послѣ похода моего“, — продолжаетъ Магнусъ, — „нашла на нашу землю шведскую погибель, потомъ, моръ, голодъ и междоусобная война. У меня самаго отнялъ Богъ умъ, и просидѣлъ я цѣлый годъ задѣланъ въ палатѣ, прикованный на цѣпи; потомъ пріѣхалъ сынъ мой изъ Мурманской (Норвежской) земли, вынулъ меня изъ палаты и повелъ въ свою землю мурманскую. Но и на дорогѣ опять поднялась буря, потопила корабли и людей моихъ, самого меня вѣтеръ носилъ три дня и три ночи, наконецъ принесъ подъ монастырь св. Спаса, въ Полную рѣку; здѣсь монахи сняли меня съ доски, внесли въ монастырь, постригли въ чернецы и схиму, послѣ чего и живу я три дня и три ночи; а всѣмъ этимъ Богъ наказалъ меня за мое высокоуміе, что наступалъ я на Русь вопреки крестному цѣлованію. Теперь приказываю своимъ дѣтямъ и братьямъ: не наступайте на Русь на крестномъ цѣлованіи; а кто наступитъ, на того Богъ, и огонь, и вода, которыми я былъ казненъ; а все это сотворилъ мнѣ Богъ къ моему спасенію“.
Первая изъ только-что упомянутыхъ нами повѣстей принадлежитъ XIII вѣку, вторая — XIV. Къ XIII же вѣку относятся: „Рязанское сказаніе о нашествіи Батыя“, сказаніе „объ убіеніи Михаила Черниговскаго и боярина его Ѳеодора въ ордѣ отъ Батыя“ и сказаніе „о благовѣрномъ князѣ Довмонтѣ и о храбрости его“. Къ XIV вѣку, въ теченіе котораго этотъ литературный родъ особенно укоренился и развился у насъ, относятся, — кромѣ „Магнушева рукописанія“, — „сказаніе объ убіеніи кн. Михаила Тверскаго въ ордѣ отъ Узбека“, „о взятіи и раззореніи Москвы Тохтамышемъ“, „повѣсть о спасеніи Москвы отъ Тамерлана“, „слово о томъ, какъ бился Витовтъ съ Темиръ-Кутлуемъ“, „слово о житіи и преставленіи Димитрія Донскаго“; наконецъ — цѣлый рядъ сказаній „о Мамаевомъ побоищѣ“.
Изъ этого простаго перечисленія видно, что главный интересъ всѣхъ повѣстей и сказаній, сохранившихся намъ отъ XIII и XIV вѣка, вращается около одной главной основы — татарскаго ига и борьбы противъ татаръ. Этотъ живой интересъ придалъ нѣкоторымъ изъ однообразныхъ и риторски-напыщенныхъ сказаніи, повѣстей и словъ живыя краски поэтическаго одушевленія. Такимъ одушевленіемъ особенно отличается „Рязанское сказаніе о нашествіи Батыя“, которое мы передадимъ здѣсь вкратцѣ, а въ добавленіи къ главѣ сообщимъ то же самое сказаніе въ поэтическомъ пересказѣ Л. Мея.
„Пришелъ за грѣхи наши безбожный царь Батый на Русскую землю съ множествомъ войска татарскаго, и сталъ на рѣкѣ Воронежѣ, и послалъ къ князю Юрію Игоревичу Рязанскому пословъ, требуя десятины отъ всего: и отъ князей, и отъ людей, и отъ коней“. Такъ начинается русское сказаніе, тѣсно связанное съ другимъ сказаніемъ „о перенесеніи чудотворнаго образа Николы Зарайскаго изъ Корсуня въ Рязань“. Затѣмъ описываются совѣщанія князей, которые рѣшаютъ отправить къ Батыю молодаго князя Ѳеодора Юрьевича съ дарами и просьбою — не воевать рязанской земли. Князь Ѳеодоръ ласково принятъ Батыемъ, который взялъ отъ него и дары… на тутъ одинъ рязанскій бояринъ-измѣнникъ шепнулъ хану, что у Ѳеодора жена — красавица; Батый потребовалъ, чтобы Ѳеодоръ показалъ ему жену; на это тотъ улыбнулся и отвѣчалъ ему: „когда насъ одолѣешь, тогда и женами нашими владѣть будешь“. Батый приказалъ убить Ѳеодора и сопровождавшихъ его князей и бросить тѣла ихъ звѣрямъ и птицамъ на растерзаніе. Одинъ изъ пѣстуновъ князя, именемъ Аполоница, успѣлъ скрыть на нѣкоторое время тѣло возлелѣяннаго имъ питомца и поспѣшилъ съ вѣстью о смерти его къ благовѣрной княгинѣ Евпраксіи, женѣ Ѳеодора Юрьевича. Блаженная княгиня Евпраксія стояла на стѣнѣ высокаго терема и держала на рукахъ сына своего Ивана, когда къ ней пришелъ Аполоница съ горестною вѣстью о мученической кончинѣ ея супруга; и вотъ, едва услышала она эту вѣсть, какъ вмѣстѣ съ сыномъ бросилась внизъ съ высокой стѣны и убилась до смерти.
Тогда князь Юрій Игоревичъ Рязанскій, съ другими сосѣдними князьями, выступилъ на встрѣчу полчищамъ татарскимъ, и произошла сѣча ужасная: „одному приходилюсь“ — по выраженію сказанія — „биться съ тысячами, а двоимъ — съ тьмами“. Первый палъ въ битвѣ братъ Юрія, Давидъ Игоревичъ. Увидѣвъ это, Юрій въ горести воскликнулъ: „братія моя милая, дружина ласковая, узорочье и воспитаніе рязанское! мужайтесь и крѣпитесь! братъ нашъ Давидъ прежде насъ испилъ чашу, — и мы-ли ее не выпьемъ!“ У_д_а_л_ь_ц_ы ж_е и р_ѣ_з_в_е_ц_ы рязанскіе такъ крѣпко бились, что даже земля подъ ними стонала и Батыевы полки пришли въ смятеніе. Однако же несмѣтное множество полковъ одолѣло горсть храбрыхъ: — ни одинъ не ушелъ: „всѣ равно пали и испили единую общую чашу смерти, всѣ полегли тамъ вмѣстѣ“. Одинъ только Олегъ Игоревичъ, по прозванію Красный, взятъ былъ, израненный, въ плѣнъ Батыемъ, но и тотъ пріялъ вѣнецъ мученическій, ибо началъ укорять Батыя, называя его безбожнымъ и врагомъ христіанства, и тотъ повелѣлъ изрубить его въ куски. Вслѣдъ за битвою, полчища татарскія осадили Рязань, взяли ее послѣ долгой и храброй обороны, и сравняли съ землею. Тогда вдругъ, съ небольшою горстью избѣгнувшихъ гибели рязанцевъ, является мстителемъ своихъ сооттичей одинъ изъ вельможъ рязанскихъ, по имени Евпатій Коловратъ. Со стороны Чернигова, гдѣ онъ собиралъ дань для своего князя, этотъ удалецъ внезапно ударяетъ на татарскія полчища и начинаетъ избивать ихъ нещадно. Татары не могутъ понять, откуда явился этотъ исполинъ со своею богатырскою дружиною? Самъ царь Батый затрепеталъ и тревожно спрашиваетъ приведенныхъ къ нему плѣнниковъ изъ дружины Евпатія, кто они, какой вѣры и къ чему столько зла творятъ татарамъ? И они отвѣчали: „мы всѣ вѣры христіанской, а рабы великаго князя Юрія Игоревича, отъ полка Евпатія Коловрата, посланы всѣ отъ кн. Юрія Игоревича Рязанскаго почтить тебя, сильнаго царя, и честно проводить, и честь тебѣ должную воздать; не подивися на насъ, царь, что мы не успѣваемъ наливать чашъ на великую силу татарскую“. Тогда Батый высылаетъ противъ Евпатія шурина своего Таврула, который хвалится тѣмъ, что привезетъ къ Батыю Евпатія живымъ. Но едва съѣхались они съ Евпатіемъ, какъ тотъ разсѣкъ его нá-полы, до самаго сѣдла… Также точно побилъ и изрубилъ онъ много и другихъ знатныхъ татаръ, пока они не навели на него м_н_о_ж_е_с_т_в_о с_а_н_е_й с_о с_н_а_р_я_д_о_м_ъ (?) и тутъ только едва его одолѣли, и принесли его тѣло къ Батыю. И подивился Батый богатырскому тѣлу Евпатія, и сказалъ: „братъ Евпатій, гораздо ты меня употчивалъ съ малою твоею дружиною, да много побилъ и знаменитыхъ богатырей сильной орды; если бы ты у меня, царя, служилъ, то я бы тебя противъ сердца своего держалъ“. И повелѣлъ царь Батый отдать тѣло Евпатіево остальной его дружинѣ, которая взята была на побоищѣ еще живая, и повелѣлъ ихъ отпустить съ тѣломъ (Евпатія) и ничѣмъ имъ не вредить».
Въ концѣ этого замѣчательнаго сказанія прибавленъ «плачъ князя Игоря Игоревича о братіи, побіенной отъ нечестиваго царя Батыя». Такого рода «плачи» присоединялись къ очень многимъ изъ повѣстей и сказаній, не только излагающихъ горестныя событія въ родѣ только что помянутаго «Рязанскаго взятія», но даже и радостныя (такія, напримѣръ, какъ побѣда надъ Мамаемъ), однако же сопряженныя съ большими потерями и гибелью многихъ храбрыхъ. Вслѣдствіе этого, нѣкоторыя повѣсти наши носятъ названіе умильныхъ повѣстей или сказаніи, т. е. трогательныхъ, возбуждающихъ жалость.
Важнѣйшее мѣсто, въ числѣ другихъ повѣстей и сказаній XIV вѣка, несомнѣнно принадлежитъ сказаніямъ о Мамаевомъ побоищѣ. Это важное событіе историческое не могло не найти себѣ отголоска въ сердцахъ современниковъ.
И сколько голосовъ должны были во всѣхъ концахъ Руси откликнуться радостною пѣснею на слухъ о побѣдѣ надъ п_о_г_а_н_ы_м_и, о томъ, что первое дружное усиліе еще разрозненной земли Русской увѣнчалось успѣхомъ, превосходившимъ всякое ожиданіе. Побѣда, одержанная Димитріемъ Донскимъ надъ татарами на Куликовомъ полѣ (1380 г.), должна была, вслѣдствіе этого, послужить основой множеству произведеній и въ народной, устной литературѣ, и въ книжной литературѣ сказаній и повѣданій, заносившихся въ сборники и лѣтописи. Сочувствіе къ великому событію выразилось въ этихъ произведеніяхъ не только страшною ненавистью къ отступникамъ отъ общаго дѣла, но и стремленіемъ различныхъ городовъ и областей къ громкому заявленію о своемъ участіи въ событіи, о своихъ усиліяхъ, способствовавшихъ одержанію побѣды надъ татарами. Это стремленіе проявилось въ произведеніяхъ, касающихся Куликовской битвы, въ видѣ отдѣльныхъ эпизодовъ, которыми, въ разныхъ концахъ Руси, украшалось общее сказаніе о «З_а_д_о_н_щ_и_н_ѣ 1) в_е_л_и_к_а_г_о к_н_я_з_я г_о_с_п_о_д_и_н_а Д_м_и_т_р_і_я И_в_а_н_о_в_и_ч_а и б_р_а_т_а е_г_о В_л_а_д_и_м_і_р_а А_н_д_р_е_е_в_и_ч_а».
1) З_а_д_о_н_щ_и_н_а, т. е. походъ за Донъ.
Въ одномъ пересказѣ этого сказанія, въ которомъ сильнѣе другихъ отразилось вліяніе народной фантазіи, весь успѣхъ битвы приписывается хитрости одного изъ русскихъ вождей — Волынца — устроившаго засаду вмѣстѣ съ братомъ великаго князя Владиміромъ Андреевичемъ. Волынецъ и рисуется въ этомъ пересказѣ такими. чертами, которыя весьма ясно напоминаютъ намъ нѣкоторыхъ героевъ нашей народной поэзіи, являющихся въ былинахъ. Такъ, напримѣръ, передъ битвою, онъ выходитъ на поле между двумя войсками и по различнымъ примѣтамъ, которыя ему удается наблюсти, предсказываетъ, что побѣда останется на сторонѣ русскаго воинства. Въ другихъ пересказахъ сказанія, очевидно монастырскихъ, особенное вниманіе обращено на то участіе, которое въ самомъ разгарѣ битвы принимало «н_е_б_е_с_н_о_е в_о_и_н_с_т_в_о», поражавшее татаръ, а также и на видѣніе стража-разбойника Ѳомы Хаберцеева, которое должно было служить знаменіемъ побѣды христіанъ. Несмотря на то, что подобные эпизоды довольно рѣзко отличаютъ народныя сказанія «о Мамаевомъ побоищѣ» отъ сказаній книжныхъ, — тѣ и другія сказанія не составляютъ двухъ рѣзко-отдѣльныхъ родовъ, потому что и книжныя сказанія, какъ видно, пополнялись съ самаго начала чертами произведеній народной фантазіи, и народныя, поздно за-писанныя, искажались болѣе или менѣе значительными книжными добавленіями.
Чрезвычайно любопытною чертою всѣхъ сказаній о Куликовской битвѣ, преимущественно книжныхъ, является замѣчательное сходство ихъ, по складу и языку, съ знаменитымъ памятникомъ XII вѣка — со словомъ о полку Игоревѣ. Замѣтно, что это произведеніе было извѣстно авторамъ сказаній о Куликовской битвѣ, почиталось ими образцовымъ, и потому побуждало ихъ къ подражанію — надо сказать правду — весьма не-искусному. Это особенно ярко выясняется изъ сравненія «Плача Ярославны» съ однообразнымъ и многословнымъ прощальнымъ плачемъ супруги Дмитрія, княгини Евдокіи, или — еще болѣе — изъ сравненія превосходнаго описанія Курянъ, воиновъ Яръ-Тура Всеволода, «повитыхъ подъ трубами, вскормленныхъ съ конца копья» — съ описаніемъ воиновъ Владиміра Андреевича въ «Сказаніи», гдѣ этотъ князь говоритъ, что «воеводы у насъ вельми крѣпки, а русскіе удальцы свѣдоми, имѣютъ подъ собою борзы кони, и доспѣхи имѣютъ вельми тверды, щиты червленные, копья злаченыя, сабли булатныя», и т. д.
Одинъ изъ древнѣйшихъ списковъ, въ которыхъ сохранилось наше сказаніе «о Задонщинѣ», приписывая это сказаніе какому-то боярину Софонію, вспоминаетъ, между прочимъ, и про Бояна, «в_ъ г_о_р_о_д_ѣ К_і_е_в_ѣ г_о_р_а_з_д_н_а г_у_д_ц_а», прославлявшаго древнихъ князей. Затѣмъ авторъ приглашаетъ всѣхъ послушать пѣснь въ хвалу великаго князя Дмитрія Ивановича и брата его Владиміра Андреевича; послѣ этого авторъ обращается къ жаворонку и соловью, которымъ предлагаетъ воспѣть славу великаго князя Дмитрія, и описываются сборы войска въ разныхъ мѣстахъ Руси; очень хорошо представлены эти сборы въ Новѣгородѣ:
«Звонятъ колокола вѣчевые въ Новѣ-городѣ; стоятъ мужи-Новгородцы у св. Софіи, и говорятъ таково жалобно: „ужъ намъ, братья, къ великому князю Дмитрію Ивановичу на помощь не поспѣть“. Тогда словно орлы слетѣлись со всей полуночной страны: то не орлы слетѣлись — выѣхали посадники изъ великаго Нова-города, съ семью тысячами войска, къ великому князю Дмитрію Ивановичу и брату его, князю Владиміру Андреевичу».
И вотъ, словно грозныя тучи, идутъ отовсюду на Русскую землю полчища поганыхъ и вся природа грозитъ имъ гибелью въ своихъ знаменьяхъ. Однако же первыя стычки Русскихъ съ татарами неудачны: много христіанъ гибнетъ, а побѣда все на сторонѣ поганыхъ. Тогда горько всплакались о своихъ мужьяхъ боярыни московскія; а Микулина жена даже обратилась къ Дону съ мольбою, говоря: «Донъ, Донъ, быстрый Донъ, ты прошелъ землю Половецкую, пробилъ берега харалужные: прилелѣй моего Микулу Васильевича». Въ субботу же, на рождество св. Богородицы, «изрубили христіане поганые полки на полѣ Куликовѣ, на рѣкѣ Напрядѣ». При описаніи самой битвы разсказывается о томъ, какъ Владиміръ Андреевичъ проситъ у брата помощи: «татары» — говоритъ онъ — «храбрую дружину у насъ истеряли, а въ трупьѣ человѣчьи борзые кони и скочить не могутъ, а въ крови бродятъ по колѣно». Тогда взмолился и самъ князь великій къ своимъ боярамъ: «Братья бояре и воеводы, и дѣти боярскія, вотъ гдѣ найдете вы ваши сладкіе московскіе меды и добудете себѣ великія мѣста и женамъ своимъ». Вслѣдъ затѣмъ вражье войско смято дружнымъ ударомъ Русскихъ: Татары бѣгутъ, «скрежеща зубами и раздирая лица свои», въ злобѣ и отчаяніи. Мамай ищетъ убѣжища въ "Хаѳестѣ градѣ и сноситъ насмѣшки жителей его: «не бывать тебѣ, поганый Мамай» — говорятъ они — "въ Батыя-царя; пришелъ ты на Русь съ девятью ордами и семидесятью князьями, а нынѣ бѣжишь самъ-девять въ Лукоморье. Нешто тебя князья русскіе гораздо употчивали? Ни князей съ тобой нѣтъ, ни воеводъ; нешто ты гораздо упился у быстраго Дону на полѣ Куликовѣ, на травѣ-ковылѣ? А на Русской землѣ въ то же время всѣ веселятся и радуются, хотя трупы христіанъ лежатъ у Дона великаго, и Донъ три дня кровью течетъ. Великій князь Дмитрій Ивановичъ считаетъ убитыхъ и трогательно прощается съ ними, говоря: «Здѣсь суждено было вамъ пасть, на этомъ мѣстѣ межъ Дономъ и Днѣпромъ, на подѣ Куликовѣ, на рѣчкѣ Напрядѣ! Здѣсь положили вы головы за святыя церкви, за землю Русскую, за вѣру христіанскую. Простите мнѣ, братья, и благословите насъ; а вамъ всѣмъ вѣнецъ (предназначенъ) въ будущемъ вѣкѣ».
Хотя этотъ рядъ сказаній о битвѣ куликовской и подвигахъ великаго князя Дмитрія Ивановича представляетъ собою произведенія большею частью незамѣчательныя въ литературномъ отношеніи; хотя по сравненію съ памятникомъ XII вѣка, въ которомъ воспѣвался незначительный походъ князя сѣверскаго на половцевъ, всѣ эти сказанія являются блѣдными и безцвѣтными подражаніями, часто повторяющими буквально цѣлыя фразы Слова и Полку Игоревѣ — однако же эти сказанія важны по духу своему, какъ выраженія того общаго стремленія, которое одушевляло всѣхъ русскихъ людей въ концѣ XIV столѣтія. Впервые пробудилось у нихъ около того времени сознаніе своей силы, сознаніе возможности бороться съ ненавистными и страшными врагами Руси, въ теченіе полутора вѣка угнетавшими ее своимъ тягостнымъ игомъ. Сознаніе того, что борьба съ татарами необходима и неизбѣжна, начало болѣе и болѣе вкореняться въ русскомъ обществѣ и прекрасно выразилось въ одной изъ нашихъ лѣтописей конца XV вѣка, въ которой лѣтописецъ, негодуя на бояръ, совѣтовавшихъ Іоанну III мириться съ Ахматомъ, восклицаетъ:
«О храбрые, мужественные сынове русскіе, потщитеся сохранить свое отечество, Русскую землю, отъ поганыхъ; не пощадите своихъ головъ, да и не узрятъ очи ваши плѣненія и грабленія святыхъ церквей и домовъ вашихъ, и убіенія дѣтей вашихъ и поруганія женъ и дочерей вашихъ. Многія великія и славныя земли пострадали отъ турокъ, какъ напримѣръ греки и болгаре, и Трапезонъ, и Аморія, и арбаносы, и хорваты, и Каѳра, и иныя многія земли, которыя не выступили противъ врага мужественно; и погибли тѣ народы, и отечество свое изгубили, и землю, и государство, и скитаются по чужимъ странамъ, по истинѣ, какъ бѣдные странники, достойные вполнѣ и плача, и слезъ — и всѣ поносятъ ихъ и оплевываютъ ихъ, какъ н_е_м_у_ж_е_с_т_в_е_н_н_ы_х_ъ!… Пощади, Господи, насъ, православныхъ христіанъ, отъ такого бѣдствія, по молитвамъ Богородицы и всѣхъ святыхъ. Аминь».
Эти слова лѣтописца, современника Іоанна III, при которомъ совершилось окончательное избавленіе Руси отъ татарскаго ига, были только послѣднимъ отголоскомъ того стремленія къ борьбѣ съ врагами отечества, которому первоначальнымъ выраженіемъ послужило сказаніе о куликовской битвѣ, какъ о первой одержанной надъ ними достославной побѣдѣ.
Пѣсня про боярина Евпатія Коловрата *).
править- ) Это поэтическій пересказъ того рязанскаго сказанія, о которомъ мы уноминали выше, на стр. 90—91.
На святой Руси быль и была,
Только быльемъ давно поросла…
Охъ — вы, зорюшки-зори!
Не одинъ годъ въ поднебесьѣ вы зажигаетесь,
Не въ первой въ синемъ морѣ купаетесь:
Посвѣтите съ поднебесья, красныя,
На бывалые дни, на ненастные!…
Вы, курганы, курганы сѣдые!
Насыпные курганы, степные!
Вы надъ кѣмъ, подгорюнившись, стонете,
Чьи вы бѣлыя кости хороните?
Разскажите, какъ русскую силу
Клала русская удаль въ могилу?…
I.
правитьКъ городу — Рязани
Катятъ трои сани,
Сани розвальныя —
Дуги росписныя;
Вожжи на отлетѣ;
Кони на разлетѣ;
Колокольчикъ плачетъ —
За версту маячитъ.
Первыя-то сани —
Все-то поѣзжане,
Все-то сѣверяне, —
Въ рукавицахъ новыхъ,
Въ охабняхъ бобровыхъ.
А вторыя санки —
Все-то поѣзжанки,
Все-то сѣверянки,
Въ шапочкахъ горлатныхъ,
Въ жемчугахъ окатныхъ.
А что третьи сани
Къ городу Рязани
Подкатили сами
Всѣми полозами,
Подлетѣли птицей
Съ красной царь-дѣвицей,
Съ греческой царевной —
Душей Евпраксѣвной.
У рязанскаго князя, у Юрія Ингоревича,
Во его терему новорубленномъ,
Свѣтлый свадебный пиръ, ликованіе:
Сына старшаго, княжича Ѳедора,
Повѣнчалъ онъ съ царевной Евпраксіей,
И добромъ своимъ княжескимъ кланялся;
А добро-то накоплено изстари:
Похвалила-бы сваха досужая,
Въ полуглазъ поглядя, мимо-идучи.
Но полу-столѣ, въ полу-пиру,
Молодыхъ гости чествовать учали,
На вѣнечное мѣсто ихъ глядючи,
Да смѣшки про-себя затѣваючи:
Словно стольный-бы князь ихъ не жалуетъ —
Горькій медъ имъ изъ погреба выкатилъ,
А не свадебный!… —«Инъ нодсластили-бы!»
А кому подсластить-то?… Ужъ вѣдомо:
Молодымъ…
Молодые встаютъ и цѣлуются.
И румянцемъ они, что ни разъ, чередуются,
Будто солнышко съ зорькой вечернею:
И гостямъ, и хозяину весело;
Чарка съ чаркой у нихъ обгоняются,
То и знай — черезъ край наливаются.
Только нѣтъ веселѣй поѣзжанина,
И смѣшливѣй нѣтъ, и рѣчистѣе
Супротивъ княженецкаго тысяцкаго, —
Аѳанасія Прокшича Нóздилы
А съ лица непригожъ онъ и немолодъ:
Голова у него, что ладонь, вся то лысая,
Борода у него клиномъ, рыжая,
А глаза, — что у волка, — лукавые,
Врозь глядятъ, — такъ вотъ и бѣгаютъ.
Былъ онъ княжескимъ думцомъ въ Черниговѣ,
Да теперь, за царевной Евпраксіей,
Перебрался въ Рязань къ князю Юрію,
Цѣлымъ домомъ, со всею боярскою челядью.
И на смѣну ему Юрій Ингоревичъ
Отпустилъ что ни лучшихъ дружинниковъ,
И боярина съ ними Евпатія
Коловрата, рязанскаго витязя, —
Князя Ѳедора брата крестоваго.
Отсидѣли столы гости званые;
Поѣзжане свой поѣздъ управили,
Короваемъ князь Ѳедоръ еъ княгинею,
Со своей ненаглядной молодушкой,
Старшимъ родичамъ въ поясъ откланялся,
Помолился въ соборѣ Заступницѣ
И поѣхалъ изъ стольнаго города
Въ свой удѣлъ…
На горѣ на обрывистой,
Надъ рѣкой Осетромъ, надъ излучиной,
Строенъ теремъ князь-Ѳедора Юрьича.
Боръ дремучій кругомъ понавѣсился
Вѣковыми дубами и соснами,
Сползъ съ горы, перебрался и за рѣку,
Точно въ бродъ перешелъ, и раскинулся
Въ неоглядную даль, необъѣздную…
Зажилъ князь съ молодою княгинею
Въ терему, что на вѣткѣ прилюбчивой
Сизый голубь съ голубкою ласковой.
И ужъ такъ-то ласкала княгиня Евпраксія,
Такъ-то крѣпко любила милого хозяина,
Что и словъ про такую любовь не подобрано.
А сама изъ себя — всѣмъ красавица:
И собольею бровью, и поступью,
И румяной щекой, и рѣчами привѣтными:
Будетъ годъ, по десятому мѣсяцу —
Родила она первенца-княжича…
Окрестили его на Ивана-Крестителя
И назвали Иваномъ, а прозвали постникомъ,
Для того, что ни въ середу княжичь, ни въ пятницу
Не бралъ груди у матери…
Ѳедоръ-князь,
На такой на великой на радости,
Въ новоставленный храмъ Николая Святителя,
Чудотворца Корсунскаго, вкладу внесъ
Полказны золотой своей княжеской…
II.
правитьПо рязанскимъ лѣсамъ и по пустошамъ
Завелося подъ осень недоброе.
Кто ихъ знаетъ тамъ — мáрево, аль — зáрево?
Вотъ: встаетъ тебѣ къ небу, съ полуночи,
Красный столбъ сполыньей бѣломорскою;
Вотъ: калякаетъ кто-то, калякаетъ…
По деревьямъ топоръ — ровно звякаетъ…
А кому тамъ и быть, коль не лѣшему?
Нѣтъ дороги ни конному тамъ и ни пѣшему…
Раскидали разсыльныхъ — вернулися
Говорятъ: «насъ впередъ ни посыловать,
А не то ужъ не ждать: со полуночи
Мы того навидались — наслышались,
Что — храни насъ святые угодники!…
Вы послушайте — что начинается?
Отъ царя, отъ Батыя безбожнаго
Есть на Русскую землю нашествіе.
Слышь: стрѣлой громоносной — молнійною
Спалъ онъ къ намъ, а отколѣ — незнаемо…
Саранча агарянъ съ нимъ безсчетная:
Такъ про это и знайте — и вѣдайте.
III.
правитьБыло сказано… Слѣдомъ и прибыли
Два ордынца съ женой-чародѣйницей,
Все-жъ къ великому князю рязанскому,
И къ другимъ князьямъ — пронскимъ и муромскимъ…
„Такъ и быть: десятиной намъ кланяйтесь
Съ животовъ, со скотовъ и со прочаго“.
Снесся князь съ Володимеромъ-городомъ
И съ другими; да, знать, уже въ тѣ-поры
Гнѣвъ Господень казнилъ Русь безъ милости:
Отступились со страхомъ и трепетомъ.
Ну, тогда старый князь князя Ѳедора
Повѣщаетъ, что „вотъ молъ безвременье…
Поѣзжай ты, съ великимъ моленіемъ,
И съ дарами, къ нему, нечестивому. .
Бей челомъ, чтобъ свернулъ онъ съ Воронежа,
Не въ рязанскую землю, а въ русскую…
О хозяйкѣ твоей озаботимся…“
Ѳедоръ-князь и поѣхалъ…
IV.
правитьИ вотъ что случилося: —
Ѣхалъ Нêздила Прокшичъ съ князь-Ѳедоромъ,
И съ ними рязанскіе вêршники, шестеро,
Въ станъ Батыевъ… Проѣхали островомъ
Подгороднымъ; проѣхали далѣе
Островами другими немѣренными,
И ужъ дѣло-то было къ полуночи…
Все — соснякъ, березнякъ, да осинникъ… промежь листвы
Издалека имъ стало посвѣчивать…
Ѣдутъ по лѣсу, на свѣтъ — прогалина:
Лугъ и рѣчка; за рѣчкой раскинуты
Сплошь и рядомъ шатры полосатые —
Станъ, — и станъ неоглядный… Кишмя-кишатъ
Люди не люди — нѣтъ на нихъ образа Божія,
А какое-то пламя проклятое,
Какъ звѣрье окаянное якобы…
Кто въ гунѣ просмоленной, кто въ панцырѣ,
Кто въ верблюжію шкуру закутался…
Узкоглазые всѣ и скуластые,
А лицо словно въ вѣникахъ крашено.
Шумъ и гамъ! Всѣ лепечутъ по своему;
Гдѣ заржетъ жеребецъ остреноженный,
Гдѣ верблюдъ всею пастью прорявкаетъ…
Тутъ кобылу доятъ; тамъ махàнину
Пожираютъ, что волки несытые;
А другіе ковшами да чашками
Тянутъ что то такое похмѣльное
И хохочутъ, другъ друга подталкивая…
Вдоль по рѣчкѣ топливо навалено,
И пылаютъ костры неугасные…
Сторожа въ камышахъ притаилися…
Обокликнули князя и съ Нêздилой;
Отозвались они и поѣхали,
Черезъ весь станъ, къ намёту Батыеву;
Всполошилась орда некрещеная:
Сотень съ пять побѣжало у стремени…
Князь съ бояриномъ ѣдутъ — не морщатся —
Межъ кибитокъ распряженныхъ войлочныхъ;
Стремянной Ополоница сердится,
А другіе дружинные вершники
Только крêстятся, въ сторону сплевывая:
На Руси этой нечисти съ роду невидано…
Закраснѣлась и ставка Батыева:
Багрецовыя ткани натянуты
Вкругъ столпа, весь-какъ-есть, золоченаго.
Одаль ставки, а кто и при пологѣ,
Стали цѣлой гурьбою улусники —
Всѣ въ кольчугахъ и въ шлемахъ, съ ковыль-травою;
За плечами колчаны; за поясомъ
Заткнутъ ножъ, закаленый съ отравою,
На одинъ только взмахъ и подшептанный.
Князя въ ставку впустили и съ Нêздилой.
Ханъ сидитъ на коврѣ; ноги скрещены;
На плечахъ у него пестрый роспашень,
А на темени самомъ скуфейка парчевая.
По бокамъ, знать, вельможи ордынскіе,
Всѣ въ такихъ-же скуфейкахъ и роспашняхъ…
Сталъ челомъ бить ему, нечестивому,
Ѳедоръ князь, а покудова Нêздила
Подмигнулъ одному изъ приспѣшниковъ
И отвелъ его въ сторону.
Молитъ князь:
„Не воюй-де, царь, нашей ты волости,
А воюй, что иное и прочее:
Съ насъ и взять-то придется по малости,
А что загодя вотъ — мы поминками
Кой-какими тебѣ поклонилися“.
Ханъ подумалъ-подумалъ и вымолвилъ:
„Подожди-ка я вотъ посовѣтуюсь…
Выди вонъ ты на время на малое —
Позову…“
Вышелъ Ѳедоръ-князь — позвали…
Говоритъ ему ханъ: соглашаюся
И поминки прійму, только знаешь-ли?
Мало ихъ…» (толмачами взаимными
Были Нêздила съ тѣмъ-же ордынцемъ подмигнутымъ:)
«Мало ихъ», говоритъ князю Ѳедору
Царь Батый, «а коль хочешь уладиться —
Дай красы мнѣ княгинины видѣти».
Помертвѣлъ Ѳедоръ князь съ перва-на-перво,
А потомъ какъ зардѣется:
«Нѣтъ-молъ, — ханъ!
Христіанамъ къ тебѣ, нечестивому,
Женъ ужъ намъ не водить; а твоя возьметъ,
Ну, владѣй всѣмъ, коль только достанется!»
Разъярился тутъ Ханъ, крикнулъ батырямъ;
«Разнимите ножами противника на части!»
И розняли…
Потомъ и на вершниковъ,
Словно лютые звѣри, накинулись:
Всѣхъ — въ куски; лишь одинъ стремянной Ополоница
Изъ поганаго омута выбрался…
А боярина Нêздилы пальцемъ не тронули…
V.
правитьЗагорѣлося утро по лѣтнему,
Загорѣлось сначала на куполѣ,
А потомъ перешло на верхушки древесныя,
А потомъ поползло по землѣ, словно крадучись,
Гдѣ жемчужинки, гдѣ и алмазинки
У росистой травы отбираючи.
Куманика перловымъ обсыпалась бисеромъ;
Подорѣшникъ всей бѣлою шапкой своей нахлобучился
И поднялъ повалежные листья натужившись;
Съ Осетра валитъ паръ, словно съ каменки —
Значитъ; будетъ днемъ баня опарена…
У Николы Корсунскаго къ ранней обѣднѣ ударили…
И княгиня проснулась подъ колоколъ…
Съ колыбели птенца своего припадаючи
Цѣловала его, миловала и пѣстовала,
И на красное солнышко вынесла,
На подборъ теремной, на свѣтёлочный.
Вотъ стоитъ она съ нимъ, смотритъ на поле,
На лѣсъ — на рѣку, смотритъ такъ пристально
На дорогу бѣгучую подъ гору.
Смотритъ… пыль по дорогѣ поднялася…
Скачетъ кто-то, и конь весь обмыленный…
Ближе глянула, анъ Ополоница —
Не примѣтилъ княгини-бъ, да крикнула:
Осадилъ жеребца, задыхается…
А княгиня Евпраксія спрашиваетъ:
--«Гдѣ-же князь мой, сожитель мой ласковый?»
Замоталъ головой Ополоница:
--«Не спросила-бы, не было-бъ сказано.
Благовѣрный твой князь Ѳедоръ Юрьевичъ,
Красоты твоей ради неслыханной,
Убіенъ отъ царя, отъ Батыя неистоваго!»
Обмерла-обомлѣла княгиня Евпраксія,
Къ персямъ чадо прижала любезное,
Да съ нимъ вмѣстѣ съ подбора и ринулась
На сырую мать-землю, и тутъ заразилася до смерти…
И оттолѣ то мѣсто Заразомъ прозвалося,
Потому-что на немъ заразилася
Съ милымъ чадомъ княгиня Евпраксія.
VI.
правитьВъ это время Батый, царь неистовый,
На Рязань поднялъ всю свою силу безбожную,
И пошелъ прямо къ стольному городу;
Да на полѣ его вся дружина рязанская встрѣтила,
А князья впереди: самъ великій князь,
Князь Давидъ, и князь Глѣбъ, и князь Всеволодъ —
И кровавую чашу съ татарами роспили.
Одолѣли-бъ рязанскіе витязи,
Да не въ мочь было: по сту татариновъ
Приходилось на каждую руку могучую…
Изрубить-изрубили они тьму несмѣтную,
Наконецъ утомились-умаялись,
И сложили удалыя головы,
Всѣ, какъ билися, всѣ до единаго,
А князь Юрій легъ вмѣстѣ съ послѣдними,
Бороня свою землю и отчину,
И семью, и свой столъ, и княженіе…
Какъ объѣхалъ потомъ царь Батый поле бранное,
Какъ взглянулъ онъ на падаль татарскую, —
Преисполнился гнѣва и ярости,
И велѣлъ всѣ предѣлы рязанскіе
Жечь и грабить, и рѣзать безъ милости
Всѣхъ, — отъ стараго даже до малаго,
Благо ихъ боронить было не кому…
И нахлынули орды поганыя
На рязанскую землю изгономъ неслыханвымъ,
Взяли Пронскъ, Ижеславецъ и Бѣлгородъ,
И людей изрубили безъ жалости,
И пошли на Рязань… Сутокъ съ четверо
Отбивались отъ нихъ горожане рязанскіе;
А на пятыя сутки ордынцы проклятые
Сквозь проломы кремлевской стѣны и сквозь пслымя
Ворвалися и въ церковь соборную, —
Тамъ убили княгиню великую,
Со снохами ея и съ княгинями прочими,
Перебили священниковъ, иноковъ;
Храмы Божьи, дворы монастырскіе--
Всѣ пожгли; городъ предали пламени;
Погубили мечомъ все живущее, —
И свершилось по слову Батыеву:
Ни младенца, ни старца въ живыхъ не осталося…
Плакать нê кому было, и нê-по-комъ…
Все богатство рязанское было разграблено…
И свалило къ Коломнѣ ордынское полчище.
VII.
правитьХоденемъ пошло поле окрестное
И сыръ-боръ зашатался вотъ-словно подъ бурею…
Налетѣла-ль она, многокрылая,
Или сила иная на ставки татарскія,
Только ломятся ставки и валятся,
Только стонъ поднялся вдоль по стану ордынскому;
Загремѣли мечи о шеломы каленые;
Затрещали и копья, и бердыши;
Отъ броней и кольчугъ искры сыплются;
Полилася рѣкой кровь горячая…
Варомъ такъ и варитъ всю орду нечестивую:
Рубятъ, колютъ и бьютъ — кто? — невѣдомо.
Тутъ ордынцы совсѣмъ обезпамятили,
Точно пьяные, или безумные.
Кто ничкомъ лежитъ — мертвымъ прикинулся,
Кто бѣжитъ вонъ изъ стана — коней ловитъ;
А и кони по полю шарахнулись —
Ржутъ и носятся тоже въ безпамятствѣ.
Тутъ все стадо реветъ — всполошилося;
Тамъ ордьшки развылись волчихами;
Здѣсь костеръ развели, да не во время:
Два намета сосѣдніе вспыхнули.
А наѣзжая сила незримая
Бьетъ и рубитъ, и колетъ безъ устали, —
Слышно только, что русскіе витязи,
А нельзя полонить ни единаго…
Вòпятъ бáтыри въ страхѣ и ужасѣ:
--"Мертвецы, мертвецы встали русскіе,
«Встали съ поля рязанцы убитые!»
Самъ Батый убоялся… А Нêздила!
Ужъ у хана въ шатрѣ.
«Только взять-бы кого: мы развѣдаемъ —
Мертвецы, или люди живые наѣхали?»
Говоритъ онъ, а дрожь-то немалая
Самого пронимаетъ затѣмъ, что все близятся
Стонъ и вопли къ намету Батыеву,
Все бѣгутъ въ перепугѣ улусники,
Отъ невидимой силы невѣдомой…
--«Повели, Ханъ, костры запалить скоро-на-скоро
И трубить громче въ трубы звончатыя,
Чтобы всѣ твои бáтыри слышали;
Да пошли поскорѣе за шуриномъ
Хоздовруломъ» — Батыю совѣтуетъ Нêздила.
Ханъ послушался: трубы призывныя грянули,
И зарей заиграло въ поднебесьѣ зарево.
Въ пору въ самую, близко отъ ставки Батыевой
Пронеслася толпа русскихъ витязей,
Прогоняя татàрву поганую
И топча подъ копытами конскими;
Да въ догонку ей стрѣлы, что ливень, посыпались, —
И упали съ коней на-земь пятеро.
Подбѣжали ордынцы къ нимъ, подняли
И къ Батыю свели. Ханъ ихъ спрашиваетъ:
«Вы какой земли, вѣры какой, что невѣдомо,
Почему мнѣ великое зло причиняете?»
И отвѣтъ ему держатъ рязанскіе витязи:
— «Хрястіанской мы вѣры, дружинники
Князь-Юрья рязанскаго, пóлку Евпатія
Коловрата; почтить тебя посланы —
Проводить, какъ подобаетъ великому».
Удивился Батый ихъ отвѣту и мудрости,
И послалъ на Евпатія — шурина,
И полки съ нимъ татарскіе многіе.
Хоздоврулъ похвалялся: «живьемъ возьму,
За сѣдломъ приведу къ тебѣ русскаго витязя».
А ему подговаривалъ Нêздила:
--«За сѣдломъ!… Приведешь его къ Хану у стремени».
И поѣхали оба на встрѣчу Евпатію…
А заря поднималася на небѣ
И сступились полки.. у Евпатія
Всей дружины-то было-ль двѣ тысячи —
Вся послѣдняя сила рязанская —
А ордынцы шли черною тучею:
Не окинуть и взглядомъ, не то-чтобъ довѣдаться —
Сколько ихъ?… Впереди Хоздоврулъ барсомъ носится.
Молодецъ быль и бàтырь: коня необгоннѣе
И вѣрнѣе копья у ордынцевъ и не было.
И сступили полки… На Евпатія
Налетѣлъ Хоздоврулъ, только нê въ пору:
Исполинъ былъ Евпатій отъ младости силою —
И мечомъ раскроилъ Хоздоврула онъ нà-полы
До сѣдла, такъ-что всѣ, и свои, и противники
Отшатнулись со страхомъ и трепетомъ…
Рать ордынская дрогнула, тылъ дала,
А всѣхъ прежде свернулъ было Нêздила,
Да коня подъ устцы ухватилъ Ополоница.
Только глянулъ бояринъ Евпатій на Нêздилу,
Распалился душой молодецкою
И съ сѣдла его сорвалъ. А Нêздила
Сталъ молить его слезнымъ моленіемъ:
«Отпусти хоть мнѣ душу-то на покаяніе!»
Отвѣчаетъ Евпатій: --«Невиненъ ты —
Мать сырая земля въ томъ виновница,
Что носила такое чудовище:
Пусть и пьетъ за то кровь твою гнусную…
Ты попомни княгиню Евпраксію
И колѣй, старый песъ, непокаянно!»
Тутъ взмахнулъ надъ шеломомъ онъ Нêздилу
И разбилъ его о землю въ дребезги;
Самъ-же кинулся вслѣдъ за ордынцами
И погналь ихъ до самой ставки Батыевой.
Огорчился Батый и разгнѣвался,
Какъ узналъ, что Евпатій убилъ его шурина,
И велѣлъ навести на Евпатія
Онъ пороки, орудія тѣ стѣнобитныя…
И убили тогда крѣпкорукаго,
Дерзосердаго витязя; тѣло-же
Принесли передъ очи Батыевы.
Изумился и Ханъ, и улусники
Красотѣ его, силѣ и крѣпости.
И почтилъ Ханъ усопшаго витязя:
Отдалъ тѣло рязанскимъ дружинникамъ
И самихъ отпустилъ ихъ, промолвивши:
«Погребите вы бáтыря вашего — съ честію,
По законамъ своимъ и обычаямъ,
Чтобъ и внуки могилѣ его поклонялися».
Л. Мей.

VIII.
правитьXѴ вѣкъ. — Проповѣдь политическая. — Вассіанъ, архіепископъ Ростовскій. — Полемическое направленіе духовной литературы. — Іосифъ Волоцкой и Нилъ Сорскій.
правитьВыше, въ ѴІ-й главѣ, упоминали мы о тѣхъ особыхъ условіяхъ историческихъ, которыя, даже во время татарскаго ига, страшнаго и бѣдственнаго для всѣхъ, способствовали возвышенію русскаго духовенства надъ всѣми остальными сословіями. Мы упоминали и о томъ, что матеріальная сторона быта нашего высшаго духовенства и монашества являлась, вслѣдствіе тѣхъ же историческихъ условій, на столько удовлетворительною, на столько спокойною, что лица, принадлежавшія къ высшему духовенству и монашеству, могли посвящать свои досуги книжному ученію и занятіямъ литературнымъ, и если не способствовали распространенію образованія въ массѣ, то, по крайней мѣрѣ, съумѣли поддержать его въ своей средѣ на извѣстномъ уровнѣ.
Этотъ уровень былъ невысокъ; немногіе, наиболѣе образованные изъ среды духовенства и монашества, находили возможность подняться выше его и расширить разнообразить кругъ свѣдѣній своихъ, удовлетворяя жаждѣ знанія, потребности просвѣтить себя… Что же касается до остальной, громадной массы низшаго духовенства, то оно, наравнѣ со всѣми другими сословіями, и со всею массой народа, при полнѣйшемъ отсутствіи школъ и средствъ къ просвѣщенію, коснѣло въ самомъ грубомъ и печальномъ невѣжествѣ.
Вслѣдствіе такого ненормальнаго распредѣленія просвѣщенія между различными слоями общества и массой народа, мы видимъ въ исторіи просвѣщенія и литературы XV столѣтія замѣчательно противоположныя явленія. Съ одной стороны — рядъ произведеній, свидѣтельствующихъ о вѣрномъ пониманіи дѣйствительности, о знаніяхъ и начитанности авторовъ не только въ Св. Писаніи и твореніяхъ Отцевъ Церкви, но даже и о нѣкоторомъ знакомствѣ ихъ съ классическою литературой; этотъ рядъ произведеній заканчивается несомнѣнно-замѣчательнымъ богословскимъ трактатомъ: — «П_р_о_с_в_ѣ_т_и_т_е_л_е_м_ъ» Іосифа Волоцкаго, направленнымъ противъ ереси жидовствующихъ. Съ другой стороны — видимъ рядъ явленій общественныхъ, свидѣтельствующихъ о глубокомъ невѣжествѣ даже въ верхнихъ слояхъ общества, полнѣйшую безграмотность ближайшихъ къ народу слоевъ духовенства, полнѣйшее безсиліе его противъ зараждающихся на Руси ересей, и, что всего хуже, — полное равнодушіе къ дѣлу просвѣщенія.
Духовная литература наша въ XV столѣтіи, — подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ важныхъ историческихъ событій и нѣкоторыхъ новыхъ религіозныхъ и общественныхъ вопросовъ, обратившихъ на себя преимущественное вниманіе духовенства, какъ сословія наиболѣе просвѣщеннаго, — весьма опредѣленно выражается въ двухъ главныхъ видахъ: въ проповѣди п_о_л_и_т_и_ч_е_с_к_о_й и об_щ_е_с_т_в_е_н_н_о_й (посланія къ князьямъ и частнымъ лицамъ), и въ литературѣ полемической, направленной противъ ересей. Сверхъ того, конечно, прежнимъ путемъ своимъ продолжала идти литература монастырская: въ стѣнахъ монастырей велась лѣтопись, переводили съ греческаго и продолжали составлять сборники, собирали свѣдѣнія о житіи и чудесахъ мѣстно-чтимыхъ подвижниковъ сѣверной Руси; но и въ этомъ отдѣлѣ монастырской литературы замѣтно въ XV вѣкѣ также нѣкоторое движеніе впередъ, такъ какъ являются попытки литературнаго изложенія древнѣйшихъ преданій и сказаній о святыхъ, являются даже авторы, исключительно посвящающіе себя обработкѣ этого литературнаго рода, пріобрѣтающіе, подобно Симону и Поликарпу, громкую извѣстность именно этою стороною своей литературной дѣятельности.
Въ кругу событій политическихъ вниманіе передовыхъ дѣятелей изъ среды духовенства было обращено, конечно, на раздоры между князьями и на отношенія къ татарамъ, могущество которыхъ было уже не страшно Руси, но еще не разрушено, не уничтожено въ конецъ, какъ оно было необходимо для полнаго спокойствія нашего отечества. Просвѣщеннѣйшіе, передовые представители духовнаго сословія (которое, къ чести своей никогда не увлекалось, подобно западному духовенству, исключительными стремленіями къ обособленію, къ выдѣленію себя изъ народной среды) постоянно употребляли всѣ свои усилія на то, чтобы, съ одной стороны, сохранить миръ и цѣлость, неразрозненность Русской земли, въ которыхъ они и видѣли единственное спасеніе ея; а съ другой — направить всѣ силы этой единой, сильной Руси противъ все еще грозныхъ остатковъ ордынскихъ. Въ ряду такихъ политическихъ и общественныхъ проповѣдей первое, по времени, мѣсто принадлежитъ посланіямъ св. Кирилла, знаменитаго основателя монастыря на Бѣлѣозерѣ. Мы уже выше упомянули о другихъ трудахъ этого замѣчательнаго подвижника, возбудившаго въ такой степени уваженіе къ себѣ современниковъ и ближайшаго потомства, что въ свидѣтели клятвъ княжескихъ, во время послѣднихъ между-княжескихъ усобицъ, призывалось имя его, какъ имя одного изъ покровителей сѣверо-восточной Руси, вмѣстѣ съ именемъ св. Сергія. Впослѣдствіи намъ еще не разъ придется упоминать объ основанной св. Кирилломъ обители Бѣлозерской, какъ о такой, которой, послѣ монастыря св. Сергія, предстояло имѣть болѣе другихъ значенія и въ гражданской, и въ литературной исторіи нашей древней Руси.
На самой грани XIV и XV вв. встрѣчаемъ мы посланіе св. Кирилла къ великому князю Василію Дмитріевичу, писанное въ 1400 году, по поводу его раздоровъ съ Суздальскими князьями. «Чѣмъ болѣе святые приближаются къ Богу любовью, тѣмъ болѣе видятъ себя грѣшными» — такъ обращается Кириллъ въ этомъ посланіи къ князю; — «ты, господинъ, пріобрѣтаешь себѣ великое спасеніе и пользу душевную тѣмъ своимъ смиреніемъ, что посылаешь ко мнѣ грѣшному, нищему, страстному и недостойному съ просьбою помолиться за тебя… Я, грѣшный, съ братіею своею, радъ, сколько силы будетъ, молить Бога о тебѣ, нашемъ господинѣ; ты же самъ, Бога ради, будь внимателенъ къ себѣ и ко всему княженію твоему. Если въ кораблѣ гребецъ ошибется, то малый вредъ причинитъ плавающимъ; если же ошибется кормчій, то всему кораблю причинить пагубу: такъ если кто нибудь изъ бояръ согрѣшитъ, то повредитъ этимъ одному себѣ; если же самъ князь, то причиняетъ вредъ всѣмъ людямъ. Возненавидь же, господинъ, все то, что влечетъ тебя на грѣхъ, бойся Бога, истиннаго Царя, и будешь блаженъ. Слышалъ я, господинъ князь великій, что большая смута (происходитъ) между тобою и сродниками твоими, князьями Суздальскими. Ты, господинъ, свою правду сказываешь, а они свою, и черезъ это между христіанами происходитъ великое кровопролитіе. Такъ посмотри, господинъ, повнимательнѣе, въ чемъ будетъ ихъ правда передъ тобою, и, по своему смиренію, уступи имъ; въ чемъ же будетъ твоя правда передъ ними, такъ ты за себя стой по правдѣ. Если же они станутъ тебѣ бить челомъ, то, Бога ради, пожалуй ихъ по ихъ мѣрѣ, ибо слышалъ я, что они до сихъ поръ были у тебя въ нуждѣ, и отъ того начали враждовать. Такъ Бога ради, господинъ, покажи къ нимъ свою любовь и жалованье, чтобы они не погибли, скитаясь въ татарскихъ странахъ». Кромѣ этого посланія къ великому князю Василію Дмитріевичу до насъ дошли и еще два посланія св. Кирилла къ братьямъ великаго князя: одно къ князю Андрею Дмитріевичу Можайскому, въ удѣлѣ котораго находился и самый монастырь Кирилловъ; другое — къ князю Юрію Дмитріевичу Звенигородскому, утѣшительное, по поводу болѣзни его княгини. Первое исполнено указаній на тѣ недостатки общественнаго строя, отъ которыхъ особенно страдалъ народъ въ отчинѣ князя Юрія; къ указаніямъ прибавлено нѣсколько наставленій о томъ, какъ слѣдуетъ поступать князю, «какъ властелину въ отчизнѣ своей, отъ Бога поставленному унимать людей своихъ отъ лихаго обычая». Послѣднее, утѣшительное посланіе къ князю Юрію Звенигородскому особенно любопытно по слѣдующему заключенію, чрезвычайно живо характеризующему личность Кирилла и взглядъ современнаго инока на отношенія къ князю, повидимому, весьма дружественныя: «писалъ ты, господинъ князь Юрій», — такъ доканчиваетъ свое посланіе Кириллъ, — «что давно желаешь видѣться со мною; то, ради Бога, не пріѣзжай ко мнѣ: если же поѣдешь ко мнѣ, то на меня придетъ искушеніе, и, покинувъ монастырь, уйду, куда Богъ укажетъ. Вы думаете, что я здѣсь добръ и святъ, а на дѣлѣ выходитъ, что я всѣхъ людей окаяннѣе и грѣшнѣе. Ты, господинъ князь Юрій, не сердись на меня за это: слышу, что божественное писаніе самъ въ конецъ разумѣешь, читаешь, и знаешь, какой намъ вредъ приходитъ отъ похвалы человѣческой, особенно намъ, страстнымъ. Да и то, господинъ, разсуди: твоей вотчины въ нашей сторонѣ нѣтъ, и если ты прѣдешь сюда, то всѣ станутъ говорить: „только для Кирилла поѣхалъ“. Былъ здѣсь братъ твой, князь Андрей, но (это другое дѣло): здѣсь его вотчина, и намъ нельзя было ему, нашему господину, челомъ не ударить».
Гораздо еще болѣе важными по своему историческому значенію являются двѣ другія политическія проповѣди, относящіяся къ XV вѣку. Онѣ обѣ были вызваны однимъ изъ важнѣйшихъ событій политической исторіи древней Руси въ правленіе Іоанна III — окончательнымъ сверженіемъ ига татарскаго (въ 1480 г.). Нерѣшительность дѣйствій Іоанновыхъ противъ хана Ахмата, опасеніе тѣхъ бѣдствій, какія она могла навлечь на Русскую землю, и наконецъ, отчасти, чувство національной гордости, которой бы тяжело было уступить давнему и нестрашному болѣе врагу народному — все это побудило сначала митрополита Геронтія, вмѣстѣ съ высшимъ духовенствомъ, обратиться къ Іоанну съ «соборнымъ посланіемъ», въ которомъ указывалось на необходимость борьбы съ Татарами и на то, что самому Іоанну надлежитъ стоять во главѣ войска, для одушевленія его. Но это «соборное посланіе духовенства на Угру (13 ноября 1480)» не возымѣло надлежащаго дѣйствія. Іоаннъ медлилъ, не рѣшался, и даже сталъ вести съ Ахматомъ переговоры о мирѣ. Тогда архіепископъ Ростовскій Вассіанъ, духовникъ Іоанна и близкое ему, довѣренное лицо, отправилъ къ нему, отъ себя лично, другое посланіе, написанное съ замѣчательнымъ искусствомъ и весьма положительною убѣдительностью доводовъ. Стараясь подѣйствовать на нерѣшительность Іоанна, Вассіанъ пускаетъ въ ходъ и религіозную, и свѣтскую начитанность свою, старается возбудить въ немъ гордость и мужество и текстами св. Писанія, и примѣрами изъ отечественной исторіи, и даже изреченіями классической мудрости. Въ заключеніе посланія, Вассіанъ весьма тонко разбираетъ вѣроятно сильно дѣйствовавшіе на Іоанна доводы партіи, настаивавшей на необходимости примиренія съ Ахматомъ.

«Намъ, государь великій», — такъ начинаетъ Вассіанъ свое посланіе, — «надлежитъ вспоминать вамъ, а вамъ — насъ слушать; и вотъ, нынѣ я дерзнулъ написать къ твоему благородству, такъ какъ хочу нѣчто вспомнить отъ божественнаго Писанія, на сколько Богъ вразумилъ меня на крѣпость и утвержденіе твоей державы… Дошли до насъ слухи, будто въ то время, когда уже бесерменинъ Ахматъ приближается и погубляетъ христіанство и въ особенности похваляется на тебя и на твое отечество, ты передъ нимъ смиряешься и молишь его о мирѣ, и къ нему посылаешь, а онъ все также дышетъ гнѣвомъ и твоего моленія не слушаетъ, но хочетъ до конца раззорить христіанство… Прослышали мы и о томъ, что прежніе твои развратники не перестаютъ шептать тебѣ въ уши льстивыя слова и совѣтуютъ тебѣ не противиться супостатамъ, но отступить и предать на расхищеніе волкамъ словесное стадо Христовыхъ овецъ… Умоляю тебя, не слушай ты такого совѣта ихъ… Вѣдь что же совѣтуютъ тебѣ эти льстивые и лжеименитые, почитающіе себя христіанами? Да только то, чтобы, побросавъ щиты свои и ни мало не сопротивляясь этимъ окаяннымъ сыроядцамъ, предавъ и христіанство, и свое отечество, ты бы вмѣстѣ съ ними, какъ бѣглецъ, скитался по инымъ странамъ. Помысли-же, велемудрый государь! отъ какой славы и въ какое безчестіе сводятъ они твое величество, послѣ того, какъ такое множество народа погибло и столько церквей Божіихъ было раззорено и осквернено. И кто-же будетъ на столько каменосердеченъ, что не всплачется объ этой погибели? Убойся же и ты, о, пастырь! не отъ твоихъ-ли рукъ взыщетъ Богъ кровь погибшихъ?… И куда-же хочешь ты бѣжать, или гдѣ воцариться, погубивъ врученное тебѣ отъ Бога стадо?… И вотъ теперь, когда, какъ слышно, безбожный Агарянскій народъ приблизился къ странамъ нашимъ, къ отечеству, уже поплѣнилъ онъ и многія смежныя съ нашимъ отечествомъ страны и на насъ движется — выходи же скорѣе ему на встрѣчу, взявъ на помощь Бога и пречистую Богородицу, нашего христіанства Помощницу и Заступницу, и всѣхъ святыхъ, и прими за образецъ себѣ прежде бывшихъ твоихъ прародителей великихъ князей: они не только Русскую землю обороняли отъ поганыхъ, но даже й другія страны завоевывали, хоть бы напр. Игорь, или Святославъ, или Владиміръ, которые брали дань съ греческихъ царей; а потомъ и Владиміръ Мономахъ, — какъ и когда онъ бился съ окаянными Половцами за Русскую землю; да и многіе другіе, которые тебѣ болѣе насъ извѣстны. Также и достойный похвалъ великій князь Дмитрій, твой прародитель, каково мужество и храбрость показалъ за Дономъ надъ тѣми же сыроядцами окаянными? Самъ даже впереди всѣхъ бился, не щадя своей жизни ради избавленія христіанъ… Не усомнился онъ и не испугался множества Татаръ, не воротился назадъ, не сказалъ себѣ самому: у меня жена и дѣти, и богатства много; если даже и захватятъ мою землю, то я поселюсь гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ; нѣтъ! съ увѣренностью устремился онъ на подвигъ и выѣхалъ напередъ, и лицомъ къ лицу сталъ противъ окаяннаго разумнаго волка Мамая, усиливаясь исхитить изъ устъ его словесное стадо Христовыхъ овецъ — потому-то и всемилостивый Богъ… послалъ ему скорую помощь, и ангеловъ, и св. мучениковъ, чтобы они помогали ему на супротивныхъ. — Если же ты на это скажешь, что мы еще отъ прародителей нашихъ клятвою обязаны не поднимать руки и не возставать противъ царя (т. е. хана); то послушай же, боголюбивый царь! если клятва эта бываетъ по нуждѣ, то намъ повелѣно прощать такія клятвы и разрѣшать, и мы — святѣйшій митрополитъ и весь боголюбивый соборъ — ихъ прощаемъ и разрѣшаемъ, и благословляемъ тебя противъ него, не какъ противъ царя, но какъ противъ разбойника, хищника и богоборца; лучше тебѣ солгать да остаться въ живыхъ, нежели держаться истины и погибнуть, пустивъ тѣхъ (т. е. татаръ) въ землю на разрушеніе и истребленіе всему христіанству, на запустѣніе и оскверненіе святымъ церквамъ; не слѣдуетъ тебѣ уподобляться окаянному Ироду, который не хотѣлъ клятвы преступить (предполагается: неправильно данной), и погибъ».
Рядомъ съ проповѣдью политическою должна была, вслѣдствіе особыхъ и важныхъ историческихъ условій жизни XV вѣка, развиться и другая отрасль проповѣдей — п_о_л_е_м_и_ч_е_с_к_а_я. Правда, что и до того времени проповѣдь полемическая существовала у насъ въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ произведеній, направленныхъ различными нашими духовными лицами противъ нѣкоторыхъ подробностей обрядовой стороны латинства, а также и въ видѣ постоянныхъ поученій и проповѣдей противъ упорно державшихся у насъ на Руси языческихъ обычаевъ, несогласныхъ съ христіанскими вѣрованіями и воззрѣніями; но всѣ эти произведенія представляются намъ слабыми опытами, скорѣе поучительнаго, нежели полемическаго характера, и притомъ вызванными чисто-внѣшнею потребностью утвержденія въ паствѣ однообразныхъ религіозныхъ обычаевъ или поясненія разницы между обычаями нашей церкви и церкви западной. Напротивъ того, появленіе ересей въ самой средѣ Церкви Русской сначала ереси стригольниковъ, въ концѣ XIV вѣка, а потомъ ереси жидовствующихъ, въ концѣ XV вѣка) пробудило къ дѣятельности новыя силы, вызвало къ борьбѣ энергическихъ и сильныхъ защитниковъ цѣлости и единства преданій Восточной Церкви.
Сначала, въ борьбѣ противъ ереси стригольниковъ, проявившейся во Псковѣ, принялъ горячее участіе митрополитъ Фотій (1410—1431), родомъ грекъ, написавшій по этому поводу нѣсколько посланій псковичамъ. Но гораздо болѣе важною и плодовитою въ историко-литературномъ отношеніи явилась дѣятельность Г_е_н_н_а_д_і_я, архіепископа новгородскаго (1485—1504) противъ ереси жидовствующихъ, когда она не только распространилась въ Новѣгородѣ и Псковѣ, но даже нашла себѣ приверженцевъ и послѣдователей въ кружкѣ людей, приближенныхъ къ Іоанну III, въ самой семьѣ государя, даже въ лицѣ митрополита Зосимы, обязаннаго своимъ поставленіемъ въ митрополиты вліятельнѣйшимъ представителямъ ереси жидовствующихъ.
Къ борьбѣ съ жидовствующими Геннадій привлекъ, между прочимъ, одного изъ замѣчательнѣйшихъ по уму и образованности представителей духовнаго Сословія на Руси XV столѣтія. То былъ извѣстный своею религіозностью и строгой жизнью основатель и игуменъ Волоколамскаго монастыря, І_о_с_и_ф_ъ С_а_н_и_н_ъ (1440—1515), болѣе извѣстный подъ именемъ Іосифа В_о_л_о_ц_к_а_г_о. Іосифъ Волоцкой провелъ всю свою молодость въ Боровскомъ монастырѣ, на югѣ отъ Москвы, подъ руководствомъ игумена Пафнутія Боровскаго, прославленнаго святостію своей жизни и поддерживавшаго въ обители своей строгія правила иноческой жизни, введенныя въ нашихъ сѣверо-восточныхъ монастыряхъ св. Сергіемъ и св. Кирилломъ. «Строгъ былъ искусъ, которому подвергался Іосифъ въ Пафнутіевскомъ монастырѣ», — замѣчаетъ историкъ — «но это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые не утомляются никакими трудами, никакими лишеніями, не останавливаются никакими препятствіями при достиженіи цѣли. По смерти Пафнутія, Іосифъ, по его указанію избранный въ игумены, не хотѣлъ уже довольствоваться уставомъ монастырскимъ, введеннымъ при Пафнутіи: — онъ хотѣлъ ввести уставъ строжайшій. Большинство братіи на это не согласилось; тогда Іосифъ ушелъ изъ Пафнутіева монастыря, посѣтилъ другія обители, присматривался къ ихъ быту и обычаямъ, и наконецъ рѣшился основать свой собственный монастырь въ лѣсахъ Волоколамскихъ, съ самымъ строгимъ общежительнымъ уставомъ. До какой степени Іосифъ былъ силенъ волею и неудержимъ въ исполненіи предпринятаго имъ, — это доказывается тѣмъ, что, запретивъ женщинамъ входъ въ монастырь и всякое сношеніе съ братіей, онъ и самъ отказался отъ свиданія съ престарѣлою матерью своею. Свои мысли о значеніи иночества, о достоинствѣ монашеской жизни, Іосифъ выразилъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ: „Сказаніе о св. отцахъ монастырей русскихъ“. Здѣсь, разсказывая о знаменитѣйшихъ подвижникахъ русскихъ, приводя въ примѣръ современному монашеству и св. Сергія, и св. Кирилла, Іосифъ настаиваетъ на необходимости суровыхъ мѣръ для поддержанія строгости и чистоты иноческой жизни. Только при помощи неутомимой и замѣчательной энергіи этого инока, — на столько же отличавшагося глубокимъ разумѣніемъ Св. Писанія и твореній Отцевъ Церкви, на сколько и тонкимъ политическимъ тактомъ и практическимъ пониманіемъ жизни, — быстрые успѣхи ереси жидовствующихъ были пріостановлены, митрополитъ Зосима вынужденъ сложить съ себя санъ митрополичій, а самое ученіе и важнѣйшіе представители его подверглись на Соборѣ 1504 года строгому осужденію. Памятникомъ этой знаменитой борьбы Іосифа противъ ереси жидовствующихъ осталось его замѣчательное сочиненіе, извѣстное подъ общимъ названіемъ „Просвѣтитель“, заключающее въ себѣ 16 словъ, направленныхъ противъ еретиковъ и впослѣдствіи собранныхъ въ одно цѣлое. Эти слова Іосифа Волоцкаго представляютъ собою одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ нашей духовной литературѣ древнѣйшаго періода: — въ каждомъ изъ этихъ словъ Іосифъ является опытнымъ богословомъ, который всякую мысль свою умѣетъ подтвердить текстами, заимствованными изъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви, умѣетъ и доказать ее, и пояснить разнообразными сравненіями и доводами. Свойственныя Іосифу суровость и строгость въ правилахъ жизни и благочестія особенно ярко проявились въ борьбѣ Іосифа съ ересью жидовствующихъ, представители которой, по настоянію его, преданы были казни или подверглись ссылкѣ и заточенію. Іосифъ, съ нѣкоторымъ самодовольствомъ и полнѣйшимъ спокойствіемъ, говоритъ о томъ, что „державный повелѣлъ всѣхъ отвергшихся Христа и по жидовски мудрствующихъ — однихъ огню предать, другимъ языки рѣзать и наказывать ихъ другими способами“.
Но изъ этого суроваго отношенія къ еретикамъ, конечно, еще не слѣдуетъ дѣлать неблагопріятнаго вывода относительно характера Іосифа Волоцкаго, какъ человѣка, и тѣмъ болѣе, какъ лица духовнаго. Лучшимъ доказательствомъ того, что Іосифъ, строгій къ себѣ и къ другимъ монашествующимъ, умѣлъ отличать частную жизнь и дѣятельность отъ дѣятельности общественной, можетъ служить его посланіе къ одному вельможѣ, „о м_и_л_о_в_а_н_ь_и р_а_б_о_в_ъ“. Въ этомъ посланіи, тотъ же суровый инокъ волоколамскій, который такъ настоятельно требовалъ казни еретикамъ, не менѣе настойчиво указываетъ одному изъ приближенныхъ къ государю вельможъ на необходимость снисхожденія и мягкости въ обращеніи съ домочадцами; онъ увѣщеваетъ его не только быть милосердымъ по отношенію къ нимъ, но и заботиться объ удовлетвореніи важнѣйшихъ нуждъ ихъ. „Богъ на тебѣ свою милость показалъ и государь тебя пожаловалъ“ — говоритъ Іосифъ въ этомъ посланіи къ вельможѣ, — „такъ и тебѣ надлежитъ твоихъ слугъ пожаловать“.
Высоко-замѣчательная по энергіи и уму личность Іосифа Волоцкаго, естественно, не могла быть личностью единичною. Среда, которая воспитала и выдѣлила изъ себя грознаго противника ереси жидовствующихъ, должна была заключать въ себѣ много силъ нравственныхъ, много жизненности. Монастыри оказывались единственными центрами, въ которыхъ находили себѣ просторъ и пищу умственныя и нравственныя силы русскихъ людей въ то время — и мы, къ крайнему изумленію, видимъ, что уже въ современномъ Іосифу монашествѣ эти силы не принимаютъ какого нибудь исключительнаго, односторонняго направленія, а напротивъ того, развиваются естественно и правильно, дѣйствуютъ самостоятельно и разумно. Это болѣе всего становится для насъ ясно изъ той оппозиціи, которую встрѣтилъ Іосифъ въ современномъ монашествѣ, которая выразилась въ чрезвычайно-любопытной и оживленной полемикѣ, по различнымъ вопросамъ, занимавшимъ современное духовенство. Предметомъ полемики, главнѣйшимъ образомъ, являлся сначала вопросъ о монастырскихъ имѣніяхъ, а потомъ и самый вопросъ о борьбѣ противъ ересей.
Мы уже видѣли выше, что монастыри, вслѣдствіе особыхъ историческихъ условій, стали быстро богатѣть и затѣмъ даже пользоваться значительнымъ благосостояніемъ и безопасностью среди обѣднѣвшей, раззоренной и полудикой страны. Оставаясь по прежнему единственными центрами умственнаго и религіознаго движенія, монастыри уже владѣли въ то время землями, водамт и лѣсами; монастырю подчинялись и жившіе на его земляхъ посельцы, при помощи которыхъ монастырь обработывалъ земли свои, питалъ на тучныхъ пастбищахъ многочисленныя стада, занимался промыслами, велъ торговлю. Монастырю же принадлежало и право суда надъ всѣми поселенцами, жившими въ его владѣніяхъ. Вслѣдствіе этого, съ увеличеніемъ имѣній и богатствъ съ монастыряхъ несомнѣнно должна была падать прежняя строгая нравственность; выполненіе суровыхъ монастырскихъ уставовъ становилось тягостнымъ для иноковъ, занятыхъ чисто мірскими дѣлами, и бытъ монастырскій принималъ такой характеръ, который часто не согласовался вовсе съ духомь истиннаго монашества. Такое измѣненіе монастырскаго быта должно было, конечно, вызвать и сильную реакцію со стороны людей, отрекшихся отъ міра и посвятившихъ себя на служеніе Богу, для которыхъ монастырь олицетворялъ собою „тихое пристанище“. Въ средѣ такихъ людей являются рьяные противники существующаго порядка вещей, порицающіе, осмѣивающіе бытъ современнаго монашества, требующіе коренныхъ реформъ, самоистязанія, полнаго отчужденія отъ міра и всѣхъ его благъ, осуществленія идеальнаго типа иночества на Руси.
Во главѣ этой партіи стоитъ строгая и прекрасная личность Н_и_л_а С_о_р_с_к_а_г_о (изъ рода бояръ М_а_й_к_о_в_ы_х_ъ, род. 1433, ум. 1508 г.), долго странствовавшаго по монастырямъ аѳонскимъ, изучавшаго писанія отцовъ-пустынниковъ и, по возвращеніи домой, положившаго начало скитскаго житія въ Россіи. Увлекаясь идеаломъ пустынножительства, онъ построилъ себѣ на рѣкѣ Сорѣ (не вдалекѣ отъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря) небольшой скитъ, и свой взглядъ на иночество изложилъ въ „у_с_т_а_в_ѣ или п_р_е_д_а_н_і_и о ж_и_т_е_л_ь_с_т_в_ѣ с_к_и_т_с_к_о_м_ъ“. Основу и верхъ всякой иноческой жизни Нилъ полагаетъ въ томъ, чтобы вступающій къ иночество могъ „умереть для всякаго земнаго попеченія“. Естественно, что, при такомъ взглядѣ на иночество, Нилъ долженъ быть съ величайшимъ негодованіемъ отнестись къ обычаю монастырей, пріобрѣтать имѣнія и вообще заботиться объ увеличеніи матеріальнаго благосостоянія монашеской общины. По мнѣнію Нила, все, необходимое для жизни, иноки должны были пріобрѣтать трудами рукъ своихъ: „если кто не хочетъ трудиться“ — замѣчаетъ Нилъ — „пусть тотъ и не ѣстъ“.
Противникомъ такихъ идеальныхъ воззрѣній на иночество явился уже извѣстный намъ Іосифъ Волоцкой, справедливо видѣвшій въ монастыряхъ русскихъ единственные по тому времени разсадники просвѣщенія, которымъ. надлежитъ снабжать всю страну пастырями и учителями духовными, а потому и необходимо было поддерживать въ нихъ не только извѣстный, вполнѣ обезпеченный быть, но и связь съ практической жизнью и дѣйствительностью. Онъ полагалъ даже, что нѣтъ никакой надобности въ коренныхъ реформахъ. монастырскаго быта, и что всѣ нестроенія, вкравшіяся въ монастырскій бытъ, могутъ быть устранены строгими мѣрами и соблюденіемъ правилъ устава. Поэтому, когда на соборѣ 1503 г. Нилъ предложилъ, „чтобъ селъ у монастырей не было и монахи кормились трудами рукъ своихъ“ — Іосифъ Волоцкой явился горячимъ защитникомъ монастырскихъ имѣній. Сначала онъ указалъ на то, что монастыри принимаютъ приношенія богатыхъ съ цѣлью благотворительною — помогать бѣднымъ, что и было, по тому времени, совершенно справедливо. Затѣмъ сдѣлалъ возраженіе еще болѣе вѣское и важное, опредѣливъ значеніе монастырей, какъ мѣстъ воспитанія для епископовъ и другихъ лицъ, занимающихъ высшія іерархическія должности. „Если у монастырей селъ не будетъ“, — говоритъ онъ — „то какъ же честному и благородному человѣку постричься? И если не будетъ честныхъ старцевъ, то откуда взять на митрополію или архіепископа, или епископа и на всякія честныя власти? А если не будетъ честныхъ старцевъ и благородныхъ, то и вѣрѣ будетъ поколебаніе“.
Само собою разумѣется, что мнѣніе Іосифа нашло себѣ поддержку и въ отцахъ собора, и въ большинствѣ современнаго монашества; но за то и мнѣніе Нила Сорскаго также было поддержано многими сильными и искусными въ полемикѣ сторонниками, изъ числа которыхъ выдвигается болѣе другихъ замѣчательная личность В_а_с_с_і_а_н_а К_о_с_о_г_о (въ мірѣ боярина кн. П_а_т_р_и_к_ѣ_е_в_а), который въ цѣломъ рядѣ сочиненій, наполненныхъ цитатами изъ Отцевъ Церкви, старается доказать всю ложность взгляда І_о_с_и_ф_л_я_н_ъ, т. е. приверженцевъ Іосифа Волоцкаго въ вопросѣ о монастырскихъ вотчинахъ. „Господь говоритъ: продаждь имѣ нія твоя“ — пишетъ Вассіанъ — ,,а мы, вступивши въ монастырь, не перестаемъ пріобрѣтать всячески чужія села и имѣнія, выпрашивая ихъ у вельможъ, или покупая»… ,,И вмѣсто того, чтобы, по заповѣди, безмолвствовать въ монастырѣ и питаться рукодѣліемъ, своими трудами, мы безпрестанно объѣзжаемъ города и въ руки богатыхъ смотримъ, разнымъ образомъ лаская ихъ и раболѣпно угождая имъ, чтобы получить отъ нихъ или село или деревнюшку, или серебро, или что-нибудь изъ скота". Іосифляне, конечно, не оставляли всѣхъ этихъ указаній и порицаній безъ отвѣта, и раздраженіе обѣихъ партій дошло до того, что Іосифъ Волоцкой въ завѣщаніи къ братіи заповѣдалъ ей не имѣть никакого общенія съ учениками Нила и Вассіана, а Вассіанъ, въ свою очередь, старался остеречь своихъ приверженцевъ отъ всякихъ сношеній съ О_с_и_ф_л_я_н_а_м_и, о которыхъ противники ихъ говорили, что они «люты, безчеловѣчны и лукавы зѣло, и властей, и имѣній желатели». Послѣ всего этого, совершенно понятнымъ становится то посланіе бѣлозерскихъ и вологодскихъ старцевъ къ Іосифу Волоцкому, въ 1511 году, въ которомъ заключается колкое опроверженіе Іосифова мнѣнія о необходимости строгихъ мѣръ и казней для вразумленія и обузданія еретиковъ. Въ этомъ посланіи, въ отвѣтъ на примѣры религіозной строгости. приводимые Іосифомъ изъ исторіи ветхозавѣтной, старцы замѣчаютъ: "тогда былъ ветхій законъ; намъ же новой благодати явилъ Владыко христолюбивый союзъ, чтобы не осуждать брату брата: «не осудите, да не осуждены будете».
Однимъ изъ ближайшихъ и важнѣйшихъ послѣдствій борьбы противъ первыхъ ересей было пробудившееся въ русскомъ высшемъ духовенствѣ сознаніе настоятельной необходимости въ книжномъ ученіи и въ грамотности, какъ въ одномъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ для предотвращенія глубоко-невѣжественной массы отъ довѣрчиваго и легкаго перехода на сторону первой явившейся ереси. Какъ любопытный памятникъ сознательнаго пониманія этой потребности сохранилось намъ посланіе Геннадія къ митрополиту Симону, въ которомъ онъ описываетъ печальное положеніе своей новгородской паствы и проситъ его ходатайства передъ Іоанномъ III объ устроеніи училищъ, въ которыхъ чувствовалась тѣмъ болѣе настоятельная нужда, что некого было ставить въ попы, и очень часто не только полуграмотные, но даже вовсе безграмотные люди посвящаемы были въ духовный санъ.
«Билъ я челомъ» — пишетъ, между прочимъ, Геннадій въ этомъ посланіи къ митрополиту — «государю и великому князю, чтобы велѣлъ училища устроить: вѣдь я своему государю напоминаю объ этомъ для его же чести и спасенія, а намъ бы просторъ былъ; когда приведутъ ко мнѣ ставленника грамотнаго, то я велю ему ектенью выучить, да и ставлю его, и отпускаю тотчасъ же, поучивъ, какъ божественную службу совершать; и такіе на меня не ропщутъ. Ну, а вотъ приведутъ ко мнѣ мужика: я велю ему апостолъ дать читать, а онъ и ступить не умѣетъ; велю дать псалтирь — онъ и по тому едва бредетъ; ему откажу — а они кричатъ: „земля, господинъ, такая, не можемъ добыть человѣка, кто бы грамотѣ умѣлъ“; но вѣдь это всей землѣ позоръ, будто нѣтъ въ землѣ человѣка, кого бы можно въ попы поставить! Бьютъ мнѣ челомъ: „пожалуй, господинъ, вели учить!“ Вотъ я и прикажу учить его ектеніямъ, а онъ и къ слову не можетъ пристать: ты говоришь ему одно, а онъ — совсѣмъ другое; велю учить азбукѣ, а онъ, поучившись немного, да и просится прочь, ужъ не хочетъ учиться; а иной и учится, да не усердно, и потому живетъ долго. Вотъ такіе-то меня и бранятъ; а мнѣ что же дѣлать? Не могу, не учивши, ихъ поставить. Для того-то я и бью челомъ государю, чтобъ велѣлъ училища устроить: его разумомъ и грозою, а твоимъ (митрополита Симона) благословеніемъ это дѣло исправится, и ты бы, господинъ отецъ нашъ, государей нашихъ великихъ князей просилъ, чтобъ велѣли училища устроить; а мой совѣтъ таковъ, что учить въ училищѣ сперва азбукѣ, а потомъ псалтири съ слѣдованьемъ накрѣпко: — когда это выучатъ, то могутъ читать всякія книги. А вотъ мужики, невѣжды, учатъ ребятъ, такъ только рѣчь имъ портятъ: прежде выучатъ вечерню, и за эту мастеру принесутъ кашу, да гривну денегъ; за заутреню тоже, или еще и больше; за часы особенно, да подарки еще несетъ кромѣ условной платы; а отъ мастера отойдетъ — ничего не умѣетъ, только бредетъ по книгѣ, о церковномъ же порядкѣ понятія не имѣетъ. Если государь прикажетъ учить и цѣну назначитъ, что брать за ученье, то учащимся будетъ легко, а противиться никто не посмѣетъ; да чтобы и поповъ ставленныхъ велѣлъ учить, потому что нерадѣнье въ землю (нашу) вошло. Вотъ теперь у меня побѣжали четверо ставленниковъ — Максимко, да Куземко, да Афанасько, да Емельянко мясникъ: этотъ и съ недѣлю не поучился — побѣжалъ; православны ли такіе будутъ? По мнѣ такихъ нельзя ставить въ попы; о нихъ Богъ сказалъ чрезъ пророка: „ты разумъ мой отверже, азъ же отрину тебе, да не будеши мнѣ служитель“.

Другимъ важнымъ слѣдствіемъ борьбы съ жидовствующими явилось первое полное собраніе книгъ Св. Писанія на славянскомъ языкѣ, составленное при томъ же архіепископѣ новгородскомъ Геннадіѣ, въ 1498 году, и сохранившееся до нашего времени подъ названіемъ „Сѵнодальнаго списка Библіи“. До этого времени въ нашей письменности не было полнаго собранія всѣхъ каноническихъ книгъ Св. Писанія; потребность въ такомъ полномъ собраніи чувствовалась нашимъ духовенствомъ и нашими грамотными предками въ такой степени, что въ XIV—XV вв. они искали себѣ замѣны Библіи даже въ Толковой Палеѣ, которую часто даже и называли Библіей. Свой „вѣковой авторитетъ“ Толковая Палея сохранила, вслѣдствіе этого, и гораздо позже, до самаго начала XVIII вѣка: знаменитый расколоучитель, протопопъ Аввакумъ, въ письмѣ своемъ къ царю Алексѣю Михайловичу, еще ссылался на Палею, какъ на Св. Писаніе 1).
1) Отчетъ объ Уваровской преміи 1878 г. Статья Тихонравова, стр. 53.
Ожесточенная полемика съ жидовствующими вынудила наше духовенство озаботиться собраніемъ всѣхъ книгъ Св. Писанія въ одинъ общій сводъ, тѣмъ болѣе, что жидовствующіе весьма часто почерпали доводы въ подтвержденіе своего ученія именно изъ тѣхъ книгъ, которыя не находились подъ руками у Геннадія и другихъ искоренителей ереси. Это неудобство побудило Геннадія не только собрать воедино всѣ разрозненные списки отдѣльныхъ библейскихъ книгъ, но даже и пополнить кругъ ихъ новыми переводами тѣхъ книгъ, которыя не дошли до насъ въ древнихъ славянскихъ переводахъ. Эта задача представляла въ ту пору весьма серьезныя трудности. Не слѣдуетъ забывать, что и самый текстъ Новаго Завѣта, въ то время извѣстный только по рукописямъ, представлялся далеко не вполнѣ исправнымъ. Неисправности Евангельскаго текста въ особенности много способствовало то, что текстъ этотъ, до начала XIV вѣка, располагался преимущественно по церковнымъ чтеніямъ, и вслѣдствіе этого, разнообразіе списковъ, умножаясь съ теченіемъ времени отъ различныхъ исправленій и переписокъ, возрасло до крайней степени. Первый шагъ къ исправленію Евангельскаго текста былъ сдѣланъ въ XIV вѣкѣ введеніемъ въ церковное употребленіе списковъ Ч_е_т_в_е_р_о_е_в_а_н_г_е_л_і_я, менѣе подвергавшихся перемѣнамъ. Притомъ же, это введеніе въ церковный обиходъ Четвероевангелія сопровождалось и сличеніемъ текстовъ славянскихъ съ подлиннымъ греческимъ текстомъ. Памятникомъ такихъ сличеній остались: списокъ Четвероевангелій, сдѣланный митрополитомъ Алексіемъ въ 1358 г., и другой списокъ, 1383 г., писанный въ Константинополѣ. Воспользовавшись по возможности трудами своихъ предшественниковъ, Геннадій внесъ въ свой трудъ весь Новый Завѣтъ, а въ число книгъ Ветхаго Завѣта включилъ нѣсколько новыхъ, вновь переведенныхъ съ латинскаго печатнаго перевода Библіи, извѣстнаго подъ названіемъ „Вульгаты“, такъ какъ не нашлось людей, достаточно знакомыхъ съ греческимъ языкомъ, дабы предпринять переводъ тѣхъ же книгъ съ греческаго текста. Вообще, во всемъ распорядкѣ Геннадіевскаго сборника библейскихъ книгъ замѣтно сильное вліяніе Вульгаты, отвергнутое послѣдующими собирателями библейскаго текста въ Россіи. Такое вліяніе латинскаго запада, противное преданіямъ Восточной Церкви, оказалось въ трудѣ Геннадія возможнымъ именно потому, что въ Новѣгородѣ и Псковѣ, во второй половинѣ XV вѣка, вообще слабо чувствовалось вліяніе Византіи. Къ тому же, Геннадій, ревностный защитникъ православія, видѣлъ себя вынужденнымъ прибѣгнуть къ помощи л_а_т_и_н_щ_и_к_о_в_ъ, получившихъ образованіе на западѣ, и даже къ помощи людей, завѣдомо расположенныхъ къ ереси. Въ числѣ сотрудниковъ Геннадія въ этомъ обширномъ и многознаменательномъ трудѣ упоминаютъ Ѳ_е_о_д_о_р_а Е_в_р_е_я, отъ котораго Геннадій получилъ переведенныя имъ девять главъ книги Э_с_ѳ_и_р_ь, д_о_м_и_н_и_к_а_н_ц_а В_е_н_і_а_н_и_н_а, родомъ славянина (прибывшаго въ Россію въ 1490 году, съ братомъ великой княгини Софьи), который перевелъ Маккавейскія книги, и Д_м_и_т_р_і_я Г_е_р_а_с_и_м_о_в_а, состоявшаго переводчикомъ въ посольскомъ приказѣ, побывавшаго съ разными порученіями въ Швеціи, Даніи, Пруссіи, въ Вѣнѣ и Римѣ 1).
1) Онъ переводилъ для Геннадія, кромѣ библейскихъ книгъ, нѣкоторыя сочиненія, нужныя для полемики съ жидовствующими, и служившія на западѣ для обличенія іудеевъ.

Дмитрій Герасимовъ принадлежалъ къ тѣмъ дѣятелямъ своего времени, которые были представителями новаго направленія въ жизни Московскаго государства въ концѣ XV в. и въ первой половинѣ XVI ст. Не будучи людьми родовитыми и потоэму не занимая высшихъ должностей въ государствѣ и не пользуясь внѣшнимъ почетомъ, эти дѣятели имѣли вліяніе при дворѣ Василія III и были первыми дѣльцами своего времени. Нѣкоторые изъ этихъ дѣльцовъ выдавались не только своими дарованіями, но и рѣдкими, по своему времени, знаніями. Таковыми были Григорій Истома, Власій и Дмитрій Герасимовъ. Они носили скромное названіе гонцовъ или толмачей.
Извѣстный историкъ XVI в. Павелъ Іовій Новокомскій, близко познакомившись съ Дм. Герасимовымъ, когда тому было 60 лѣтъ, такъ отзывается о немъ: „Дмитрій хорошо владѣетъ латинскимъ языкомъ, ибо еще въ юныхъ лѣтахъ получилъ первое образованіе свое въ Ливоніи и отправлялъ нѣсколько разъ важную должность посланника во многихъ христіанскихъ государствахъ. Показавъ на опытѣ ревность свою къ пользамъ отечества и особенную дѣятельность при дворахъ королей шведскаго и датскаго и у великаго магистра прусскаго, онъ въ недавнемъ времени былъ отправленъ посломъ ко двору императора Максимиліана, гдѣ, окруженный людьми всякаго рода, и обращаясь безпрестанно въ кругу общества образованнаго, удобно могъ очистить правильный и гибкій умъ свой отъ всего, что еще оставалось въ немъ грубаго“. Дмитрій, веселый и остроумный, какъ говоритъ о немъ Іовій, былъ человѣкомъ опытнымъ въ дѣлахъ государственныхъ и особенно свѣдущимъ въ св. Писаніи. „Во время своего пребыванія въ Римѣ, онъ охотно ходилъ слушать торжественное служеніе папы, былъ въ сенатѣ во время пріема папскаго кардинала Кампеджіо (возвратившагося изъ посольства въ Венгрію), осматривалъ св. храмы, и, по словамъ Іовія, любовался остатками древняго величія Рима и жалкими остатками прежнихъ зданій“.
Въ 1525 г. въ Вѣнѣ ученый Фабръ, по повелѣнію эрцгерцога Фердинанда, записывалъ извѣстія о Московіи со словъ русскихъ пословъ. Въ этомъ же году и въ началѣ 1526 г., въ Римѣ, Іовій, по желанію архіепископа консентійскаго Іоанна Руфа, составлялъ описаніе Московіи по разсказамъ того-же Дмитрія Герасимова, посланнаго великимъ княземъ Василіемъ III къ папѣ Клименту VII.
Такимъ образомъ на долю скромнаго сотрудника Геннадіева выпала обязанность сообщенія первыхъ свѣдѣній о Россіи просвѣщеннѣйшимъ изъ современныхъ европейцевъ.

IX.
правитьМонастырская литература на сѣверо-востокѣ Руси. — Житія и духовныя сказанія. — Авторы и собиратели житій; ихъ воззрѣнія и способъ изложенія матерьяла.
правитьВсѣ тѣ литературныя явленія, которыя въ XV вѣкѣ выразились рядомъ духовныхъ и религіозно-нравственныхъ произведеній литературы, въ видѣ новыхъ литературныхъ родовъ, вызванныхъ жъ жизни новыми историческими условіями быта древней Руси — были уже разсмотрѣны нами въ предыдущей главѣ. Въ то же самое время, когда проповѣдь наша принимала политическое направленіе, вынуждая духовенство заявлять о своемъ участіи къ чисто-мірскимъ дѣламъ и къ интересамъ дорогой отчизны, ереси и другіе живые современные вопросы, занимавшіе духовенство и монашество, вызывали образованнѣйшихъ представителей нашего духовенства къ весьма оживленной полемикѣ. Эта въ высшей степени замѣчательная полемика ясно опредѣляетъ намъ границы того круга фактовъ и понятій, изъ котораго почерпала свои идеалы наиболѣе развитая и образованная часть современнаго общества. Идеалы эти должны были найти себѣ еще болѣе полное выраженіе въ другой отрасли нашей монастырской литературы — въ житіяхъ.
Древнѣйшими памятниками житейнаго рода на сѣверо-востокѣ Руси являются образчики ростовской письменности: житія ростовскихъ святыхъ Исаіи (ум. 1090), Леонтія, Авраамія, Игнатія, Петра, царевича Ордынскаго и столпника переяславскаго Никиты. Въ основу этихъ древнихъ попытокъ написанія житій легли несомнѣнно мѣстныя легенды, составившіяся вскорѣ послѣ смерти или обрѣтенія мощей того или другаго святаго и долго переходившія изъ устъ въ уста между братіею или въ народѣ. Поздній списатель только записалъ готовую основу, прибавивъ къ ней свои книжныя разсужденія, ничего практическаго не дающія историку». 1) Нельзя не замѣтить, сверхъ того, что «книжныя разсужденія» списателя, въ значительной степени, могли не принадлежать ему лично, а явиться только заимствованія-ми изъ патерика «печерскаго» или подобныхъ ему образцовъ византійскихъ.
1) Ключевскій, 51.
Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ тѣ житія-біографіи, которыя въ XIII и XIV вв. составлены были современниками, или по крайней мѣрѣ со словъ современниковъ описываемаго въ житіи лица. Сюда относятся: житіе Авраамія, написанное въ Смоленскѣ, Варлаама и Аркадія — въ Новѣгородѣ, Александра Невскаго — во Владимірѣ, кн. Михаила Тверскаго — въ Твери и митрополита Петра — въ Ростовѣ. Эта небольшая группа житій «не только представляетъ образцы сѣверно-русской агіографіи въ ея первоначальномъ видѣ, но и наглядно описываетъ собою кругъ древнѣйшихъ средоточій книжнаго просвѣщенія на сѣверѣ» 1). Во всѣхъ житіяхъ этой группы встрѣчаемъ много любопытнѣйшихъ историческихъ данныхъ для исторіи быта и образованности описываемой въ нихъ эпохи, знакомимся, отчасти, и съ самою личностью ихъ авторовъ, и съ источниками ихъ литературной образованности. Такъ, напримѣръ, изъ житія Авраамія Смоленскаго узнаемъ, что въ развитіи книжнаго образованія Смоленскъ занималъ въ ряду городовъ русскихъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Письменность. какъ оказывается, была сильно развита въ смоленскихъ монастыряхъ въ концѣ XII вѣка. Изъ книгохранилища подгороднаго монастыря Авраамій бралъ для прочтенія житія восточныхъ святыхъ Антонія, Саввы и др., а также и житіе Ѳеодосія Печерскаго, и сочиненія Златоуста, Ефрема Сирина и даже нѣкоторыя апокрифическія книги. Игуменъ монастыря, обладавшаго богатымъ книгохранилищемъ, представляется въ житіи на столько начитаннымъ человѣкомъ, что при немъ никто не дерзалъ «отъ книгъ говорить». Самъ Аврааміи не ограничивается однимъ только чтеніемъ: онъ собираетъ около себя писцовъ, съ помощью которыхъ составляетъ и переписываетъ новые сборники, внося въ нихъ наиболѣе важное изъ своего обширнаго чтенія. Весьма начитаннымъ оказывается и самъ авторъ житія Аврааміева, инокъ Ефремъ, сопровождающій свое изложеніе ссылками на житія восточныя, на сочиненія Іоанна Златоуста, приводящій для сравненія со своимъ разсказомъ двѣ повѣсти изъ сборника «Златая Цѣпь». Мало того, въ самомъ изложеніи своемъ онъ выказываетъ знакомство съ общими пріемами изложенія житій: въ нѣкоторыхъ частностяхъ житія Аврааміева авторъ явно подражаетъ Несторову житію Ѳеодосія, и, съ другой стороны, умалчиваетъ обо многихъ, несомнѣнно извѣстныхъ ему (какъ современнику) подробностяхъ только потому, что авторы житій вообще проходятъ эти подробности молчаніемъ.
1) Ключевскій, 52.
Уже и въ древнѣйшихъ изъ числа сѣверно-русскихъ житій видимъ мы подражанія византійскимъ и юго-славянскимъ образцамъ. Въ нихъ, кромѣ того, замѣтно уже зарожденіе условныхъ біографическихъ чертъ и пріемовъ, изъ которыхъ въ позднѣйшее время составилась реторика житій, какъ особаго литературнаго рода. Отличительною чертою наиболѣе древнихъ сѣверно-русскихъ житій, сравнительно съ позднѣйшими, является только то, что всѣ они имѣютъ въ основѣ свое фактическое содержаніе и, сухо, сжато передавая его, не обращаютъ его въ матерьялъ для церковной проповѣди или нравственно-реторическаго разсужденія. Многія изъ нихъ имѣютъ видъ «памяти» о святомъ, или проложной записи, предназначаемой для церковнаго обихода, для прочтенія въ церкви, въ день празднества святаго, въ назиданіе набожнымъ слушателямъ.
Когда, къ концу XIV вѣка, возникшія на сѣверо-востокѣ Руси обители достигли высокаго значенія и стали оказывать важное вліяніе на историческія судьбы нашего отечества, въ монашествѣ должно было явиться весьма естественное стремленіе къ написанію житій тѣхъ новыхъ сѣверно-русскихъ подвижниковъ, которые, жизнью и дѣятельностью своею, заслужили глубоко-почтительнаго, благодарнаго воспоминанія въ потомствѣ. Такъ, прежде всѣхъ другихъ должны были, конечно, явиться житія такихъ славныхъ дѣятелей, какъ св. Сергій, Петръ митрополитъ, Алексѣй митрополитъ, Пафнутій Боровскій, Стефанъ Пермскій. Вслѣдъ за этими житіями, послѣ того, какъ они уже пріобрѣли нѣкоторую извѣстность, много разъ были и переписываемы, и передѣлываемы въ разныхъ концахъ Руси, должны были явиться житія менѣе. крупныхъ, менѣе замѣчательныхъ подвижниковъ, пользовавшихся не столь обширною, всероссійскою извѣстностію — житія такъ-называемыхъ «мѣстно-чтимыхъ» святыхъ. Мало по малу, въ каждомъ монастырѣ, образовалась своя небольшая литература житій, въ которыхъ на первомъ планѣ являлась личность основателя обители, и около нея группировались остальныя личности болѣе или менѣе замѣчательныхъ сподвижниковъ его.
Съ конца XIV в. литература сѣверно-русскихъ житій, сильно разростаясь и развиваясь, въ то же время замѣтно принимаетъ иное направленіе. Съ юга усиливается въ сѣверной Руси наплывъ славянскихъ оригинальныхъ произведеній и переводовъ, послужившихъ образцами и пособіями для изложенія житій въ новомъ направленіи; съ другой стороны, вслѣдъ за письменными памятниками юга появляются и пришлые оттуда литературные дѣятели, которые даютъ нашей литературѣ первые опыты новаго, искусственнаго изложенія житій. Полагаютъ, что въ этомъ случаѣ наиболѣе значительное вліяніе на переработку житій должны были оказать церковно-поучительныя произведенія, и въ числѣ ихъ преимущественно похвальныя слова и поученія на праздники святыхъ. Подъ вліяніемъ указанныхъ похвальныхъ словъ святымъ, та молитва или краткая похвала, которой иногда заканчивался разсказъ въ древнѣйшихъ сѣверно-русскихъ житіяхъ, стала отдѣляться отъ него въ позднѣйшихъ и мало ло малу принимать форму особой, иногда очень длинной статьи; вслѣдствіе этого измѣнялся и характеръ изложенія житій, въ которыхъ фактическая сторона болѣе и болѣе отодвигалась на задній планъ и уступала мѣсто ораторскому прославленію святаго.
Первыми писателями, которымъ удалось дать образцы новаго направленія въ жизнеописаніяхъ русскихъ святыхъ, были: сербы Кипріянъ и Пахомій Логофетъ; рядомъ съ ними является и русскій инокъ Епифаній.
Кипріянъ оставилъ намъ довольно пространное житіе митрополита Петра, которое, по его собственному выраженію, онъ взялся писать «елико отъ сказатель слышалъ», но, въ сущности, трудъ его не былъ вполнѣ оригинальнымъ, такъ какъ въ основу его было положено гораздо ранѣе явившееся «житіе Петра митрополита», написанное епископомъ ростовскимъ Прохоромъ — простой и сухой разсказъ, важный, однакоже, какъ разсказъ современника. Кипріянъ написалъ «житіе Петра», какъ предполагаютъ, между 1397 и 1404 гг., т. е. въ то время, когда онъ успокоился отъ пережитыхъ имъ волненій и смутъ и могъ предаться въ подмосковномъ митрополичьемъ селѣ Голенищевѣ своимъ любимымъ книжнымъ занятіямъ. Все, пережитое Кипріяномъ въ Россіи, въ значительной степени сближало событія его тревожной жизни съ жизнью Петра митрополита, прошедшаго черезъ тѣ же церковныя смуты: — вотъ почему въ житіи Петра Кипріянъ, высказывая свое мнѣніе о его дѣяніяхъ, особенно выставлялъ нѣкоторыя изъ нихъ, какъ бы желая объяснить и оправдать въ глазахъ современниковъ нѣкоторыя изъ своихъ собственныхъ дѣйствій. Съ этой-то именно стороны личнаго авторства и какъ выраженіе отношенія послѣдующихъ поколѣній къ великому московскому святителю, сочиненіе Кипріяна и представляется любопытнымъ и важнымъ явленіемъ въ ряду нашихъ житій конца XIV и начала XV в,
Гораздо болѣе важными въ историко-литературномъ отношеніи представляются намъ труды Епифанія, инока Троице-Сергіева монастыря, писавшаго житія свои около того-же времени, когда Кипріянъ составлялъ «житіе Петра».
Талантливый писатель и замѣчательный представитель русскаго книжнаго образованія въ началѣ XV вѣка, Епифаній перешелъ въ память потомства съ прозваніемъ П_р_е_м_у_д_р_а_г_о. Происхожденіе его неизвѣстно. Его перу принадлежатъ два житія: его учителя, Сергія Радонежскаго, и его друга, Стефана Пермскаго. Изъ Епифаніева житія Св. Сергія видно, что епископъ Стефанъ, въ поѣздкахъ своихъ изъ Перми въ Москву, обыкновенно по пути заѣзжалъ къ Сергію, въ его монастырь. Здѣсь Стефану, будущему біографу пермскаго просвѣтителя, удалось слышать его разсказы о Перми и его трудахъ на поприщѣ обращенія этого новаго края къ христіанству. Въ похвалѣ, которою Епифаній заканчиваетъ житіе Стефана, онъ сѣтуетъ, что не присутствовалъ при его кончинѣ, что больше уже не увидится съ нимъ, и при этомъ обращается къ святому съ слѣдующими трогательными словами: «помню, ты очень любилъ меня; при жизни твоей я досаждалъ тебѣ, препирался съ тобой о какомъ-нибудь событіи, о словѣ, о стихѣ писанія или о строкѣ». Ясно, что онъ писалъ, какъ очевидецъ, и это составляетъ важнѣйшую сторону его трудовъ. Съ другой стороны, и его труды служатъ важнымъ свидѣтельствомъ для ближайшаго ознакомленія насъ съ тѣмъ уровнемъ образованія, на которомъ стояли лучшіе представители нашей образованности начала XV вѣка. Епифаній провелъ большую часть своей жизни въ двухъ монастыряхъ — Ростовскомъ монастырѣ Григорія Богослова и въ Троице-Сергіевомъ — особенно богатыхъ средствами для книжнаго образованія. Тексты, которыми испещрены оба, написанныя имъ житія, указываютъ на близкое знакомство съ Св. Писаніемъ; по другимъ ссылкамъ въ тѣхъ-же житіяхъ видимъ, что Епифаній читалъ хронографы, Палею, лѣствицу, патерикъ и другіе церковно-историческіе источники, «что, сверхъ того, онъ знакомъ и съ сочиненіями черноризца Храбра (о письменѣхъ)». Въ житіи Сергія онъ высказываетъ обширное знакомство съ восточными житіями, и даже съ недавно оконченнымъ трудомъ Кипріяна. Кромѣ того, способъ изложенія и самый языкъ Епифанія указываютъ на обширную начитанность въ литературѣ церковнаго краснорѣчія. Вотъ почему написанныя имъ житія хотя и богаты фактами, но фактическое содержаніе житія уже подавляется витійствомъ, нарушающимъ всякую связь и единство между частями. Этимъ объясняется слабое распространеніе его трудовъ въ древне-русской письменности.
Напротивъ того, творенія Пахомія Логофета, писателя гораздо менѣе талантливаго, охотно читались въ древней Руси и послужили главными источниками для позднѣйшихъ изложеній сѣверно-русскихъ житій. Нѣкоторыя подробности его біографіи очень любопытны для характеристики его весьма обширной и плодовитой литературной дѣятельности. Пахомій былъ родомъ сербъ; но никакихъ свѣдѣній о его жизни до пріѣзда въ Россію мы не имѣемъ. Достовѣрно извѣстно только то, что явился онъ въ Россію до 1440 г., ибо въ этомъ же году мы уже видимъ его усердно трудящимся въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ. Здѣсь, въ теченіе своего девятнадцатилѣтняго пребыванія (1440—1459), онъ неутомимо пишетъ и составляетъ праздничныя службы святымъ, слагаетъ въ честь имъ каноны, описываетъ открытіе мощей и чудеса, передѣлываетъ старыя житія, то пополняя, то сглаживая ихъ — наконецъ, на досугѣ и какъ бы между дѣломъ, списываетъ для монастырской библіотеки цѣлый рядъ книгъ. Все это неутомимый сербъ выполняетъ, преимущественно, по заказу и порученію митрополита и другихъ высшихъ представителей современнаго духовенства. Усидчивость, съ которою работаетъ Пахомій, его умѣнье угодить всѣмъ и каждому ровнымъ и гладкимъ изложеніемъ того матеріала, который представлялся ему для обработки — пріобрѣтаютъ ему наконецъ большую литературную извѣстность. На Пахомія стараются возложить новыя работы, привлекаютъ его къ новымъ трудамъ. Такъ въ 1459 г. получаетъ онъ отъ новгородскаго архіепископа Іоны приглашеніе пріѣхать въ Новгородъ и заняться тамъ написаніемъ житій мѣстнымъ новгородскихъ угодниковъ и составленіемъ каноновъ для церковнаго празднованія ихъ памяти. Въ Новгородѣ остается Пахомій почти три года, и, точно также, какъ и въ Сергіевой обители, составляетъ житія, похвальныя слова святымъ и слагаетъ имъ каноны, за что архіепископъ Іона и вознаграждаетъ искуснаго серба-писателя «множествомъ золота, серебра и соболей». Въ 1462 году онъ опять возвращается въ Москву и, по порученію великаго князя Василія Васильевича и митрополита Ѳеодосія, ѣдетъ въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь, дабы на мѣстѣ собрать свѣдѣнія о житіи св. Кирилла. Десять лѣтъ спустя (въ 1472 г.), мы снова видимъ его въ Москвѣ, и снова трудящимся надъ составленіемъ житій собственно московскихъ мѣстныхъ угодниковъ.
Вообще говоря, намъ сохранилось отъ Пахомія 18 каноновъ, нѣсколько похвальныхъ словъ святымъ, 6 отдѣльныхъ сказаній и 10 житій; но едва-ли можно съ полною достовѣрностью сказать, что эта масса сочиненій представляетъ собою все то, что было въ теченіи долгой и трудолюбивой жизни написано «искуснымъ въ книжныхъ сложеніяхъ» сербомъ. Въ поясненіи обилія литературной дѣятельности Пахомія слѣдуетъ однакоже замѣтить, что его труды, по большей части, не были вовсе оригинальными: онъ только переработывалъ или заново излагалъ то, что уже было написано до него.
Ему удалось довольно искусно ввести въ церковную практику (въ формѣ службы, похвальнаго слова или житія) и въ составъ душеполезнаго чтенія значительную долю запаса русскихъ церковныхъ воспоминаній, накопившихся къ половинѣ XV вѣка. Онъ первый прямо установилъ постоянные, однообразные пріемы въ изложеніи жизнеописанія святаго, и далъ цѣлый рядъ образцовъ того ровнаго, нѣсколько холоднаго и монотоннаго склада, которому было легко подражать даже при весьма ограниченной степени начитанности и таланта.

Подъ непосредственнымъ вліяніемъ идей централизаціи, преобладавшихъ на Руси XVI вѣка, являлась отважная и замѣчательная попытка централизаціи въ области древне-русской письменности, которая привела къ составленію колоссальнаго сборника житій святыхъ, извѣстнаго подъ названіемъ «Ч_е_т_ь_и_х_ъ-М_и_н_е_й». Составителемъ сборника явился одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ дѣятелей XVI вѣка — архіепископъ новгородскій Макарій, впослѣдствіи бывшій митрополитомъ (съ 1542 г.). Къ сожалѣнію, намъ почти неизвѣстна біографія этого образованнѣйшаго человѣка своего времени, отличавшагося громадною начитанностью, не щадившаго ни трудовъ, ни матеріальныхъ пожертвованій на выполненіе задуманнаго имъ дѣла. Мы знаемъ о немъ только то, что онъ происходилъ изъ среды монашества обители Пафнутія Боровскаго, что онъ горячо любилъ старину и древность, и заботился о сохраненіи и подновленіи ея памятниковъ. Около 1529—1530 г. онъ озаботился собраніемъ всѣхъ важнѣйшихъ житій и составленіемъ изъ нихъ общаго свода, который долженъ былъ заключать въ себѣ «в_с_ѣ к_н_и_г_и ч_т_о_м_ы_я, к_а_к_і_я о_б_р_ѣ_т_а_л_и_с_ь в_ъ Р_у_с_с_к_о_й з_е_м_л_ѣ». Этотъ сводъ, въ которомъ матерьялъ для чтенія распредѣленъ, по числу мѣсяцевъ года, въ двѣнадцати большихъ книгахъ, получилъ названіе «Четьихъ-Миней», или м_ѣ_с_я_ч_н_ы_х_ъ ч_т_е_н_і_й, ибо весь разнообразный матерьялъ, вошедшій въ составъ этого сборника, расположенъ на основаніи послѣдовательности церковнаго календаря, а писаніе отцевъ и учителей Церкви въ Минеяхъ и помѣщены даже подъ тѣми числами мѣсяцевъ, когда совершается ихъ память. Попытка Макарія собрать воедино всѣ к_н_и_г_и ч_т_о_м_ы_я была приведена имъ въ исполненіе самымъ блистательнымъ образомъ: въ его сводъ вошли, кромѣ краткихъ и пространныхъ житій святыхъ, торжественныя и похвальныя слова на праздники и памяти святыхъ, книги св. Писанія съ толкованіями, творенія св. Отцевъ, учителей и писателей церковныхъ, патерики іерусалимскіе, египетскіе, синайскіе, печерскіе и скитскіе. Рядомъ съ этими произведеніями, подъ видомъ житій святыхъ явились въ Четьихъ-Минеяхъ и л_е_г_е_н_д_ы или д_у_х_о_в_н_ы_я с_к_а_з_а_н_і_я о с_в_я_т_ы_х_ъ, въ которыхъ истинныя событія смѣшаны съ народными преданіями и факты историческіе украшены вымыслами народной фантазіи. Изъ подобныхъ произведеній особенно замѣчательны: Ростовская легенда о Петрѣ, царевичѣ Ордынскомъ, Смоленская легенда о св. Меркуріи, Муромская легенда о Марѳѣ и Маріи, и о князѣ Петрѣ и супругѣ его Февроніи. Переписка всего свода была окончена къ 1552 году. Надъ составленіемъ этого свода Макарій трудился окодо 20 лѣтъ и успѣлъ внести въ него 1,300 житій. При составленіи своего обширнаго свода, Макарій изъ многихъ рукописей одного житія выбиралъ лучшія, по его мнѣнію; другія житія приказывалъ исправлять по отношенію къ слогу или оттѣнкамъ языка, на которомъ иногда замѣтны были слѣды первоначальной болгарской или сербской редакціи; третьи, наконецъ, Макарій приказывалъ совсѣмъ передѣлывать и писать вновь. Такъ, напримѣръ, бояринъ Василій Тучковъ, по желанію Макарія, вновь написалъ житіе Михаила Клопскаго, «затѣмъ, что прежнее было очень просто написано». Это свѣдѣніе о причинѣ, побудившей къ написанію житія, прекрасно характеризуетъ самый способъ изложенія житій, вошедшихъ въ составъ громаднаго сборника, составленнаго Макаріемъ. Способъ изложенія этихъ произведеній вообще отличается напыщенностью, искуственностью и полнымъ отсутствіемъ той простоты, которая служитъ однимъ изъ лучшихъ украшеній сжатаго и немногосложнаго разсказа житій въ ихъ древнихъ, первоначальныхъ редакціяхъ. Во многихъ отношеніяхъ, однако же, любопытно и поучительно то вступленіе, которое только-что помянутый нами авторъ житія св. Михаила Клопскаго предпосылаетъ своему сочиненію, стараясь пояснить читателямъ значеніе подобнаго рода произведеній, въ сравненіи съ величавыми отголосками классическаго эпоса, дошедшаго до нашихъ предковъ въ болѣе или менѣе полныхъ отрывкахъ:
«Слышалъ я нѣкогда», — пишетъ благочестивый авторъ житія св. Михаила Клопскаго — «какъ читали книгу о разореніи Трои. Въ этой книгѣ сплетены многія похвалы эллинамъ отъ Омира и Овидія. Ради одной ихъ буйственной храбрости, память о нихъ сохранилась такъ долговременно. Хотя Геркулесъ былъ храбръ, но онъ погруженъ былъ въ глубину нечестія и тварь почиталъ выше Творца. Также Ахиллъ и сыны троянскаго царя Пріама, будучи эллины, похвалялись отъ эллинъ и удостоились соблазнительной славы. Во сколько-же болѣе должны мы похвалять и почитать святыхъ и преблаженныхъ нашихъ чудотворцевъ, которые одержали столь великую побѣду надъ врагами и получили отъ Бога столь великую благодать, что не только люди, но и ангелы почитаютъ и славятъ ихъ. Мы-ли, послѣ этого, оставимъ эти чудеса втунѣ, не проповѣдуя о нихъ?» Чрезвычайно любопытно то, что многолѣтніе литературные труды Макарія, впослѣдствіи, когда онъ уже былъ митрополитомъ, нашли себѣ живой отголосокъ на знаменитыхъ соборахъ 1547 и 1549 год., на которыхъ утверждена была канонизація новыхъ святыхъ русскихъ. По мысли царя Ивана Васильевича и по благословенію «боголюбивѣйшаго митрополита Макарія всея Русіи», архіереи, послѣ собора 1547 года, предприняли въ своихъ епархіяхъ обыскъ о великихъ новыхъ чудотворцахъ, собрали «житія, каноны и чудеса ихъ», пользуясь указаніями мѣстныхъ жителей «въ градехъ, и въ селехъ, и въ монастырехъ, и въ пустынехъ». Затѣмъ, въ 1549 г. они явились въ Москву съ собраннымъ ими матеріаломъ, который здѣсь соборне свидѣтельствовали и ввели въ составъ церковнаго писанія и чтенія, установивъ по этимъ житіямъ и канонамъ форму празднованія памяти новымъ чудотворцамъ. При этомъ, одинъ изъ нашихъ ученыхъ изслѣдователей, разсмотрѣвши списки святыхъ, канонизованныхъ на обоихъ соборахъ, пришелъ къ чрезвычайно любопытному выводу, то на составленіе этихъ списковъ важное вліяніе было оказано собственно литературою житій, съ одной стороны, а съ другой — личнымъ участіемъ митрополита Макарія. Съ одной стороны, установленіе празднованія извѣстному святому обусловливалось существованіемъ житія и канона, которые можно было пѣть и читать въ день его памяти; съ другой стороны — двѣ трети списка святыхъ канонизованныхъ составлялись по мысли самого митрополита, руководителя собора, подъ вліяніемъ его личнаго отношенія къ памяти нѣкоторыхъ святыхъ и его знакомства съ литературой житій". И дѣйствительно, въ списки святыхъ, канонизованныхъ соборами, не вошли именно тѣ, которыхъ житія оказывались менѣе распространенными, а потому не вошли въ составъ обширнаго сборника митрополита Макарія, и, по всѣмъ вѣроятіямъ, остались ему неизвѣстны.
Въ этомъ фактѣ нельзя не видѣть очень важнаго свидѣтельства той живой связи, которая въ половинѣ XVI вѣка уже начала устанавливаться между литературою и общественною жизнью.


ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ДЕВЯТОЙ,
правитьЖитіе Петра, Царевича Ордынскаго.
правитьКириллъ, епископъ Ростовскій, во время пребыванія своего въ ордѣ, разсказывалъ хану Беркаю о томъ, какъ Леонтій крестилъ ростовскую землю; племянникъ хана, слушавшій его, плѣнился христіанствомъ, оставилъ все богатство отца своего и вмѣстѣ съ епископомъ ушелъ изъ орды въ Ростовъ. Тамъ богослуженіе въ храмѣ Пресвятой Богородицы, гдѣ на лѣвомъ клиросѣ пѣли тогда по-гречески, на правомъ — по-русски, поразило татарскаго царевича. Онъ молилъ Кирилла, чтобы тотъ окрестилъ его. "По прибытіи царевича Петра изъ орды въ Ростовъ, епископъ Кириллъ вскорѣ померъ (въ 1262 г.). Ему наслѣдовалъ владыка Игнатій, при князѣ Борисѣ Васильевичѣ Ростовскомъ. Не оставляя своихъ царскихъ потѣхъ, однажды царевичъ Петръ охотился ловчими птицами вдоль Ростовскаго озера и, утомившись охотою, къ вечеру заснулъ на берегу его. Тогда явились ему два свѣтлыхъ мужа. Когда царевичъ, въ ужасѣ, палъ передъ ними, они, взявъ его за руку, говорили ему: «друже Петре! Не бойся! Мы посланы къ тебѣ отъ Бога, въ котораго ты увѣровалъ и окрестился, и посланы для того, чтобы укрѣпить родъ твой и племя, и внуковъ твоихъ до скончанія міра». Потомъ дали они царевичу два мѣшка: въ одномъ — золото, а въ другомъ — серебро, и велѣли ему вымѣнять въ городѣ три иконы: одну Св. Богородицы съ младенцемъ, другую Св. Дмитрія и третью Николы Чудотворца… Потомъ велѣли они царевичу, съ вымѣненными иконами, явиться къ епископу и сказать отъ имени первоверховныхъ апостоловъ, чтобъ онъ соорудилъ имъ церковь при озерѣ, гдѣ царевичъ спалъ. Въ ту-же ночь являлись они и самому епископу, съ тѣмъ же повелѣніемъ о сооруженіи церкви; и когда, на другой день, епископъ Игнатій бесѣдовалъ о томъ съ княземъ ростовскимъ, приходитъ къ нимъ царевичъ съ вымѣненными иконами, которыя сіяли, какъ солнце, и повѣдалъ имъ о своемъ видѣніи. Князь и епископъ, поклонившись иконамъ, много удивлялись, какъ могъ царевичъ вымѣнять такія на торгу, потому что въ городѣ не было иконописцевъ; видѣли также, что царевичъ былъ молодъ и отъ и_н_о_в_ѣ_р_н_ы_х_ъ. Но когда Петръ разрѣшилъ ихъ недоумѣніе, епископъ пѣлъ иконамъ молебны и, отправившись на указанное мѣсто при озерѣ, заложилъ храмъ апостоламъ Петру и Павлу. Когда храмъ былъ готовъ и царевичъ Петръ поставилъ въ немъ вымѣненныя три иконы, тогда князь ростовскій, вмѣстѣ съ нимъ возвращаясь отъ храма и садясь на коня, глумясь сказалъ царевичу: «владыка тебѣ церковь устроилъ, а я мѣста не дамъ: что тогда будешь дѣлать?» Петръ отвѣчалъ: «Княже! повелѣніемъ св. апостоловъ, я куплю у тебя (столько), сколько благодать твоя отлучитъ отъ земли этой…» Князь же, видѣвъ мѣшки Петровы въ епископіи, помолчалъ немного, потомъ сказалъ: «Петре! вопрошу тебя: дашь-ли за мою землю столько, сколько ты далъ за иконы? Дашь-ли девять литръ серебра, а десятую золота?» Петръ сказалъ: «Св. апостолы говорили мнѣ: что владыка Игнатій повелитъ, то и сотвори: потому спрошу его самого». Тогда владыка, на вопросъ царевича, благословилъ его и сказалъ: «Господь изрекъ своими святыми устами: просящему у тебя дай, и ты, чадо, не пощади родите лей имѣнія, дай князю, сколько онъ хочетъ». Петръ, вѣруя словамъ владыки, поклонился ему до земли; пошелъ къ князю и сказалъ ему: «да будетъ, княже, воля св. апостоловъ и твоя!» Тогда князь велѣлъ извлечь вервь отъ воды и до воротъ, и затѣмъ отъ воротъ до угла, а отъ угла возлѣ озера: мѣсто это велико. Послѣ того Петръ сказалъ: «повели, княже, ровъ копать, к_а_к_ъ в_ъ о_р_д_ѣ б_ы_в_а_е_т_ъ, чтобы не погибло то мѣсто». Такъ и сдѣлали: выкопали ровъ, который видѣнъ и донынѣ; а Петръ началъ отъ воды класть деньги по одиночкѣ, вынимая изъ мѣшковъ — девять литръ серебромъ и десятую золота; и наполнили возы Петровыми казнами… такъ что кони едва тронули ихъ съ мѣста. Князь же и владыка, видѣвши множество выложеннаго серебра и золота, а мѣшки все также полны, дивились великому чуду.
Спустя нѣкоторое время, однажды князь и владыка говорили между собою о царевичѣ Петрѣ: «если этотъ мужъ царскаго племени уйдетъ въ орду, будетъ не ладно нашему городу», — а Петръ былъ ростомъ великъ и лицомъ красивъ. И потомъ оба они говорили ему: «Петре! хочешь-ли мы выдадимъ за тебя невѣсту?» Петръ же прослезился и отвѣчалъ князю и владыкѣ: «я возлюбилъ вашу вѣру и пришелъ къ вамъ: да будетъ воля Господня и ваша!» Князь взялъ ему отъ великихъ вельможъ невѣсту; а владыка вѣнчалъ Петра и устроилъ ему церковь и освятилъ ее по заповѣди святыхъ апостоловъ.
Князь всегда бралъ Петра на царскую утѣху около озера: ястребами, кречетами и прочими утѣхами тѣшилъ его, дабы въ нашей вѣрѣ утвердился. Однажды, во время охоты, сказалъ ему князь: «велію благодать обрѣлъ ты передъ Богомъ и граду нашему. Писано есть: „что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздастъ намъ“; пріими же, го сподине Петре, малую эту землю отъ нашей отчины и воды отъ этого озера: я тебѣ напишу граматы». И отвѣчалъ ему царевичъ: «я, княже, отъ отца и матери не умѣю землею владѣть; а граматы эти для чего?» — «Все это я тебѣ сдѣлаю» — говорилъ князь: «а граматы для того, чтобы послѣ насъ мои дѣти, внуки и правнуки не отняли тѣхъ земель у твоихъ дѣтей и внучатъ». Петръ принялъ предложеніе, а князь велѣлъ передъ владыкою писать граматы: множество земель, отъ озера, воды и лѣса, которыя и донынѣ были уряжены Петру.
Орда была тогда тиха много лѣтъ, и князь такъ любилъ Петра, что и хлѣба безъ него не ѣлъ, и при владыкѣ побратался съ нимъ въ церкви. И прозвался Петръ братомъ князю: и народились у него сыновья; и спустя малое время померъ владыко Игнатій, померъ и князь ростовскій, а дѣти его звали Петра дядею и до старости. И много лѣтъ въ благоденствіи пожилъ царевичъ Петръ и преставился въ глубокой старости, въ монашескомъ чинѣ. И положили его у св. Петра и Павла, у его усыпалища; и отъ того времени установился тамъ монастырь.
Внуки-же стараго ростовскаго князя забыли Петра и добродѣтель его, начали отнимать луга и украйны земли у Петровыхъ дѣтей. Тогда сынъ Петровъ пошелъ въ орду, сказался внукомъ брата царева; и возрадовались дядья его и одарили многими дарами, и испросили ему у царя посла. Царевъ посолъ пришелъ въ Ростовъ и разсмотрѣлъ граматы Петра и стараго князя; и положены были тогда рубежи землямъ по граматамъ стараго князя, а Петрову сына посолъ отправилъ грамату съ золотою печатью.
Когда посолъ воротился въ орду, молодые князья ростовскіе стали говорить между собою и съ боярами: «слышали мы, что родители наши звали Петра дядею, и что дѣдъ нашъ много у него серебра взялъ и братался съ нимъ въ церкви; а вѣдь это р_о_д_ъ т_а_т_а_р_с_к_і_й, а к_о_с_т_ь н_е н_а_ш_а: ч_т_о э_т_о н_а_м_ъ з_а п_л_е_м_я? Серебра же намъ не оставили ни дѣдъ, ни родители наши!» Такъ говорили они, а не искали чудотвореній святыхъ апостоловъ и забыли любовь своихъ родителей; жили такъ много лѣтъ, зазирая Петровымъ дѣтямъ, з_а т_о, ч_т_о т_ѣ в_ъ о_р_д_ѣ в_ы_ш_е и_х_ъ ч_е_с_т_ь п_р_и_н_и_м_а_л_и.
И народились у сына Петрова, у Лазаря, сыновья и дочери. Одинъ изъ внуковъ Петровыхъ, именемъ Юрій, навыкши отъ родителей своихъ честь творить святой Госпожѣ Богородицѣ въ Ростовѣ, возлагалъ на нее гривны златыя, и учреждалъ пированія владыкамъ и всему клиросу и собору, въ праздникъ апостоловъ Петра и Павла, творя ежегодно памяти по родителямъ.
И ловили рыбы ловцы Петровы гораздо больше, чѣмъ ловцы городскіе. Петровы ловцы — въ шутку закинутъ сѣти и вытащатъ множество рыбы; городскіе же, сколько ни трудятся, все понапрасну. И стали эти послѣдніе говорить князю: «господине княже! если Петровы ловцы не перестанутъ ловить, то все озеро наше опустѣетъ: всю рыбу повыловятъ». Тогда-то правнуки стараго князя ростовскаго стали говорить Юрію: «слышали мы, что дѣдъ вашъ граматы у прародителей нашихъ на мѣсто монастыря вашего взялъ, и рубежи земли его положилъ; а озеро наше: на него граматы не было взято: потому запрещаемъ вашимъ ловцамъ ловить въ этомъ озерѣ». Слышавъ то, внукъ Петровъ Юрій пошелъ въ орду и сказался правнукомъ брата царева. Дяди же многими почестями его почтили и дарами многими, и посла у царя испросили ему. И пришелъ посолъ татарскій въ Ростовъ и сѣлъ при озерѣ у святыхъ апостоловъ Петра и Павла. И былъ страхъ ростовскимъ князьямъ отъ царева посла. И сталъ онъ ихъ судить со внуками Петровыми. Юрій положилъ передъ нимъ граматы; и посолъ, воззрѣвъ на граматы, сказалъ: «положены-ли граматы на эту куплю? Ваша-ли вода? Есть-ли подъ нею земля? И можете-ли снять воду отъ земли той?» И отвѣтили ростовскіе князья: «такъ, господине! положены эти граматы, а земля подъ водою есть, а вода, господине, наша отчина, а снять ее съ земли не можемъ». Тогда сказалъ посолъ царевъ: «если не можете снять воду отъ земли, то почто своею называете? А сотвореніе есть вышняго Бога на службу и на пищу всѣмъ человѣкамъ и скотамъ». И присудилъ царевъ п_о_с_о_л_ъ п_о з_е_м_л_ѣ и в_о_д_у внукамъ Петровымъ: к_а_к_ъ е_с_т_ь к_у_п_л_я з_е_м_л_я_м_ъ, т_а_к_ъ и в_о_д_а_м_ъ; далъ Юрію грамату съ золотою печатью и ушелъ въ орду; князья же ростовскіе перестали Юрію творить зло на многія лѣта.
И возросъ правнукъ Петровъ, у Юрія сынъ, Игнатій. Прилучилось слѣдующее. Пришелъ Ахмылъ-царь на Русскую землю и пожегъ городъ Ярославль; оттуда направился со всею своею силою на Ростовъ. Устрашилась вся земля, а князья ростовскіе бѣжали; бѣжалъ и владыка Прохоръ. Но Игнатій, съ обнаженнымъ мечомъ погнавшись за владыкою, сказалъ ему: «если не пойдешь со мною противъ Ахмыла, то убью тебя! Это наше племя и сродники!» И послушалъ его владыка: со всѣмъ клиросомъ, въ ризахъ, съ крестами и хоругвями, пошелъ противъ Ахмыла, а Игнатій съ гражданами передъ крестами. Взялъ онъ т_ѣ_ш_ь ц_а_р_с_к_у_ю — соколовъ и кречетовъ, и дорогія шубы, и цвѣтныя портища, и питья различныя и, будучи край поля и озера, сталъ на колѣни передъ Ахмыломъ и сказался ему древняго брата царевымъ племенемъ: «а это» — говоритъ онъ — «село царево и твое, господине! А купля прадѣда нашего, гдѣ чудеса творилъ, господине!» И страшно было видѣть рать Ахмылову вооруженну. Тогда Ахмылъ сказалъ: «ты т_ѣ_ш_ь подаешь; а это кто въ бѣлыхъ ризахъ, и что это за хоругви? Или биться съ нами хотятъ?» Игнатій отвѣчалъ: «это богомольцы царевы и твои, да благословятъ тебя, а носятъ они б_о_ж_н_и_ц_у по закону нашему, гоcподине!»
Въ то же время у города Ярославля былъ въ тяжкомъ недугѣ сынъ Ахмыловъ, и возили его на возилахъ. Ахмылъ велѣлъ привезти его, да благословятъ его. Владыка Прохоръ со всѣмъ клиросомъ, моляся Богу, пѣлъ чудотворцамъ молебны и, освятивъ воду, далъ испить больному царевичу и благословилъ его крестомъ, — и тотчасъ же сталъ здоровъ сынъ Ахмыловъ. Самъ же Ахмылъ возрадовался, сошелъ съ коня передъ крестами и, воздѣвъ руки на небо, сказалъ: «благословенъ вышній Господь, вложившій мнѣ въ сердце придти сюда! Праведенъ еси ты, господине епископе Прохоре! Ибо молитва твоя воскресила сына моего. Благословенъ и ты, Игнатіе! Ты уберегъ людей своихъ и спасъ этотъ городъ; ты — н_а_ш_е п_л_е_м_я, ц_а_р_е_в_а к_о_с_т_ь. И если будетъ тебѣ здѣсь обида, не лѣнись, дойди до насъ!» Сказавъ это, далъ онъ 40 литръ серебра владыкѣ и 30 его клиросу; а самъ взялъ отъ Игнатія царскую тѣшь, цѣловалъ его и, поклонившись владкѣ, сѣлъ на коня и поѣхалъ въ орду, во свояси. Игнатій же, проводивъ Ахмыла съ честію, возвратился вмѣстѣ съ владыкою и съ гражданами въ великой радости; и, пѣвши молебны, прославляли они Бога и всѣхъ св. чудотворцевъ".
«Дай же, Господи, утѣху почитающимъ и пишущимъ древнихъ родителей дѣянія».
Муромское сказаніе о князѣ Петрѣ и супругѣ его Февроніи.
правитьСлучилось въ Муромѣ, когда княжилъ князь Павелъ, что вселилъ дьяволъ непріязненнаго летучаго змія къ женѣ его 1). Змій являлся къ ней какъ былъ естествомъ своимъ, другимъ же людямъ казался с_в_о_и_м_и м_е_ч_т_а_м_и, какъ бы самъ князь сидѣлъ съ женою своею. И т_ѣ_м_и м_е_ч_т_а_м_и много лѣтъ прошло;… но она не таила (того, что съ ней происходитъ) и повѣдала князю все, приключившееся ей. Тогда князь сказалъ: «мыслю, жена, и недоумѣваю, что сдѣлать н_е_п_р_і_я_з_н_и той. Не знаю, какъ убить змія. Узнай отъ него сама лестью; тогда освободишься и отъ суда Божія, и въ нынѣшнемъ вѣкѣ (отъ змія)».
1) По народному повѣрью, къ женщинамъ летаютъ огненные зміи, принимая на себя внѣшность одного изъ домашнихъ: мужа, брата и т. д.
Когда прилетѣлъ по обыкновенію змій къ княгинѣ, она спросила его, ласкаясь: «ты знаешь многое: знаешь-ли кончину свою?» — Онъ же, непріязнивый прелестникъ, прельщенъ былъ добрымъ прельщеніемъ вѣрной жены и, не скрывая отъ нея тайны, сказалъ: «смерть моя — о_т_ъ П_е_т_р_о_в_а п_л_е_ч_а, о_т_ъ А_г_р_и_к_о_в_а м_е_ч_а». Княгиня передала эту тайну своему мужу, а онъ младшему брату, Петру. Князь Петръ, услышавъ, что смерть змію приключится отъ витязя, называемаго его именемъ, не сомнѣвался, что этотъ подвигъ предназначено совершить ему самому. По указанію чудеснаго, явившагося ему юноши находитъ онъ Агриковъ мечъ въ церкви женскаго монастыря Воздвиженья Животворящаго Креста, въ олтарной стѣнѣ, между камнями, въ скважинѣ. Послѣ того онъ искалъ, какъ бы убить змія. Разъ, по обычаю, приходитъ онъ на поклонъ къ своему брату, а отъ него, нигдѣ не медля, къ невѣсткѣ и, къ своему крайнему удивленію, нашелъ брата уже съ нею. Воротившись назадъ, онъ удостовѣрился, что съ женою князя былъ его непріязненный двойникъ. Тогда Петръ взялъ Агриковъ мечъ и отправился къ княгинѣ. Только что ударилъ онъ нечистаго мечомъ, какъ змій явился своимъ естествомъ, началъ трепетаться и издохъ, окропивъ князя Петра своею кровью. Оттого князь острупѣлъ и покрылся язвами, и пришла на него болѣзнь. Долго лѣчился онъ у врачей, но исцѣленія не получалъ; и услышавъ, что въ предѣлахъ рязанскихъ много искусныхъ врачей, велѣлъ себя туда везти.
Когда онъ прибылъ туда, одинъ изъ его юношей отправился въ весь, нарицаемую Л_а_с_к_о_в_о, и подошелъ къ воротамъ одного дома, и вошелъ въ него, никого не встрѣтивъ. Наконецъ вступаетъ въ хоромину и видитъ чудное видѣніе: сидитъ какая-то дѣвица и точетъ краснà 1), а передъ нею скачетъ заяцъ. И проговорила дѣвица: «н_е х_о_р_о_ш_о б_ы_т_ь д_о_м_у б_е_з_ъ у_ш_е_й, а х_р_а_м_у б_е_з_ъ о_ч_е_й». Юноша же, не понявъ этихъ словъ, спросилъ дѣвицу: «гдѣ хозяинъ этого дома?» Она же отвѣтствовала: «о_т_е_ц_ъ и м_а_т_ь м_о_я п_о_ш_л_и в_з_а_е_м_ъ п_л_а_к_а_т_ь, б_р_а_т_ъ ж_е м_о_й п_о_ш_е_л_ъ ч_е_р_е_з_ъ н_о_г_и в_ъ н_а_в_и з_р_ѣ_т_и» 2). Юноша опять не понялъ, что она говоритъ, и дивился, видя и слыша дѣла, подобныя чуду; и сказалъ дѣвицѣ: «вошелъ я, увидѣлъ тебя за работою, а передъ тобой скачущаго зайца, и услышалъ изъ устъ твоихъ какія-то странныя рѣчи, и не понимаю, что говоришь ты. Первое сказала ты: не хорошо быть дому безъ ушей, а храму безъ очей про отца твоего и мать сказала ты, что пошли взаемъ плакать; о братѣ же, что пошелъ черезъ ноги въ нави зрѣти; и ни одного слова не понимаю». Тогда она отвѣтствовала: «какъ же ты не понимаешь? Пришелъ ты въ этотъ домъ, и въ хоромину мою вошелъ, и увидѣлъ меня сидящую въ простотѣ. Если бы въ дому нашемъ былъ песъ и, почуявъ, какъ ты подходишь къ дому, залаялъ бы на тебя, то не увидалъ бы ты меня сидящую въ простотѣ — это дому уши. А еслибъ въ храминѣ моей былъ мальчикъ, то, увидѣвъ, что ты сюда входишь, сказалъ бы мнѣ: это храму очи. А сказала я тебѣ про отца моего и мать, что пошли взаемъ плакать: такъ они пошли на погребеніе мертваго, и тамъ плачутъ; когда по нихъ по самихъ придетъ смерть, другіе по нихъ станутъ плакать: это заимодавный плачъ. А про своего брата сказала потому, что онъ и отецъ мой — древолазцы: въ лѣсу съ дерева медъ собираютъ. Братъ мой и отправился на такое дѣло. А лѣзучи вверхъ на дерево, черезъ ноги къ землѣ (приходится) смотрѣть, думая, чтобы не урваться съ высоты: — кто урвется, погибнетъ; потому и сказала: пошелъ черезъ ноги въ нави зрѣти».
1) Краснà или крòсна — простой деревенскій холстъ.
2) В_ъ н_а_в_и — собств. в_ъ м_о_г_и_л_у, а также — в_ъ п_р_е_и_с_п_о_д_н_ю_ю. Н_а_в_а у древнихъ славянъ означало и л_о_д_к_у, и м_о_г_и_л_у, что указываетъ на древній обрядъ похоронъ въ лодьѣ.
Эта дѣвушка была сама Февронія. Юноша повѣдалъ ей о болѣзни князя и спросилъ, не знаетъ-ли она врачей, по имени, и гдѣ живутъ? А она: «еслибъ кто потребовалъ князя твоего себѣ, то могъ бы уврачевать». Юноша, отъ имени болящаго, обѣщалъ за исцѣленіе большую награду и просилъ указать жилище врача. «Приведи сюда князя» — сказала дѣвица, — «и если онъ будетъ мягкосердъ и смирененъ въ отвѣтахъ, будетъ здоровъ». Князя привезли въ весь, гдѣ жила Февронія. Въ отвѣтъ послу, отправленному къ ней за врачемъ, она сказала: «я сама уврачую князя, но имѣнія отъ него не требую. Вотъ мое условіе: если не буду его супругою, то не стану его лѣчить». Отрокъ передалъ князю отвѣтъ. А князь, пренебрегая словами ея и помысливъ о томъ, какъ князю взять себѣ въ жены дочь древолазца, черезъ посланнаго велѣлъ ей сказать обманомъ: «пусть уврачуетъ; я женюсь на ней». Тогда Февронія, взявъ малый сосудецъ, почерпнула некоей кисляди, дунула на нее и сказала: «да учредятъ князю вашему баню, и вотъ этимъ помажутъ по его тѣлу, гдѣ струпы и язвы; а одинъ струпъ оставьте не помазанъ: и выздоровѣетъ». Когда къ князю принесли это снадобье, онъ велѣлъ приготовить баню, а дѣвицу вздумалъ искусить въ отвѣтахъ, дѣйствительно-ли (она) такъ премудра, какъ онъ слышалъ объ ней отъ своего юноши. Для того послалъ къ ней князь съ однимъ изъ своихъ слугъ одно п_о_в_ѣ_с_м_о льну, сказавъ: «дѣвица эта хочетъ быть моей с_у_п_р_у_г_о_ю р_а_д_и с_в_о_е_й м_у_д_р_о_с_т_и: если она точно премудра, пусть учинитъ мнѣ, отъ этого повѣсма льну, сорочку и полотенце, въ то время, пока буду въ банѣ». Когдаже слуга принесъ Февроніи это порученіе, она сказала ему: «взлѣзь на печь, возьми съ грядъ полѣнце и снеси сюда». Слуга исполнилъ ея приказанье; она же, отмѣривъ пядью, велѣла полѣна отсѣчь. Слуга отсѣкъ. Тогда она сказала: «возьми этотъ отрубокъ и отдай своему князю, сказавъ: „пока я это повѣсмо очешу, пусть приготовитъ мнѣ князь изъ этого отрубка станокъ и все строеніе, чѣмъ сотку для него полотно“. Получивъ отвѣтъ, князь велѣлъ ей сказать, что изъ такого малаго деревца и въ такой короткій срокъ нельзя исполнить ея порученія; тогда Февронія тѣмъ же отвѣчала князю и объ его порученіи.
И подивился князь ея мудрости и, пошедши въ баню, исполнилъ все, какъ она велѣла, и совсѣмъ исцѣлился: все тѣло его стало гладко; остался только одинъ струпъ, который не былъ помазанъ. И дивился князь скорому исцѣленію, но не хотѣлъ на Февроніи жениться, о_т_е_ч_е_с_т_в_а е_я р_а_д_и; и послалъ къ ней дары; она же даровъ не приняла. Но только что онъ отъѣхалъ въ свою отчину, съ того же самаго дня отъ оставленнаго имъ струпа стали расходиться по всему его тѣлу другіе, и сталъ онъ также острупленъ многими струпами и язвами, какъ и прежде; и опять воротился за исцѣленіемъ отъ дѣвицы. И какъ приспѣлъ въ ея весь, со стыдомъ послалъ къ ней, прося врачеванья. Она же, ни мало не держа гнѣва, сказала: „если будетъ мнѣ с_у_п_р_у_ж_н_и_к_ъ, да будетъ уврачеванъ“. Тогда князь съ твердостью далъ ей слово, и отъ того же врачеванья исцѣлился, и взялъ ее себѣ въ супруги. И такимъ образомъ стала Февронія княгинею. И пришли они въ отчину свою, въ градъ Муромъ, и жили во всякомъ благочестіи, н_и_ч_т_о_ж_е о_т_ъ Б_о_ж_і_и_х_ъ з_а_п_о_в_ѣ_д_е_й о_с_т_а_в_л_я_ю_щ_е.

По малыхъ же дняхъ князь Павелъ померъ, и на мѣсто его сталъ самодержецъ города Мурома братъ его Петръ. Но княгини его Февроніи бояре не любили, женъ ради своихъ, потому что она стала княгинею н_е о_т_е_ч_е_с_т_в_а е_я р_а_д_и, Б_о_г_у ж_е п_р_о_с_л_а_в_л_я_ю_щ_у, д_о_б_р_а_г_о р_а_д_и ж_и_т_і_я е_я. Однажды пришли къ нему бояре и говорятъ: ,,мы хотимъ всѣ праведно служить тебѣ, но княгини Февроніи не хотимъ, да государствуетъ женами нашими. И если хочешь самодержецъ быть, да будетъ тебѣ другая княгиня. Февронія же пусть возьметъ себѣ богатства довольно, и идетъ, куда хочетъ». Князь же, не имѣя обычая предаваться ярости отъ чего бы то ни было, со смиреніемъ отвѣчалъ боярамъ: «пусть скажутъ объ этомъ самой Февроніи: пусть услышимъ мы, что она скажетъ». Тогда бояре неистовые, исполнившись безстыдія, умыслили сдѣлать пиръ; и когда были навеселѣ (стали говорить): «госпожа княгиня Февронія! весь городъ и бояре тебѣ говорятъ: дай намъ, чего мы у тебя попросимъ!» А она: «возьмите, что просите». Тогда всѣ они единогласно воскликнули: «всѣ мы князя Петра хотимъ, да самодержавствуетъ надъ нами; тебѣ же жены наши не хотятъ, да господствуешь надъ ними. Возьми богатства довольно и иди, куда хочешь». Февронія отвѣчала: «что просите, будетъ вамъ; только и вы дайте мнѣ, чего у васъ попрошу». Бояре съ клятвою обѣщали (ей дать, чего попроситъ. Тогда Февронія сказала: «ничего иного не прошу у васъ, только супруга своего, князя Петра». Они же отвѣтствовали: «какъ хочетъ самъ князь»; потому что врагъ вложилъ имъ помыслъ поставить себѣ иного самодержца, если не будетъ у нихъ князя Петра; и каждый изъ бояръ держалъ себѣ на умѣ, чтобъ самому быть на мѣстѣ князя. И блаженный князь Петръ сотворилъ по заповѣдямъ: власть свою ни во что вмѣнилъ, и отправился изъ города, вмѣстѣ со своею супругою. Злочестивые бояре дали имъ на рѣкѣ суда, потому что подъ городомъ тѣмъ протекала рѣка, именуемая Ока. И поплыли они въ судахъ.
На другой день утромъ, только что стали прислужники складывать въ суда поклажу, изъ города Мурома пришли вельможи, съ извѣстіемъ, что въ Муромѣ происходитъ великое кровопролитіе, по причинѣ споровъ между боярами, кому изъ нихъ княжить; потому, для прекращенія общаго бѣдствія, посланные, отъ имени всего города, прося у князя прощенія, умоляли его воротиться и княжитъ надъ Муромомъ.
Князь Петръ, никогда ни держа гнѣва, воротился вмѣстѣ съ своею супругою и властвовали они оба, заботясь о благѣ своего города.
Когда пришло время ихъ смерти, просили они Бога, чтобъ преставленіе ихъ было въ одинъ и тотъ же часъ; и сотворили совѣтъ, да будутъ положены въ одномъ гробѣ, раздѣленномъ перегородкою. И оба въ одно время облеклись въ монашескія ризы. Князь Петръ въ иноческомъ чинѣ нареченъ былъ Давидомъ, а Февронія — Евфросиніею.
Однажды Февронія работала воздухи въ соборный храмъ Пречистыя Богородицы, вышивая на нихъ лики святыхъ. Князь Петръ присылаетъ къ ней сказать, что онъ уже отходитъ отъ жизни. Февронія проситъ его подождать, когда кончитъ воздухи. Онъ присылаетъ къ ней въ другой разъ; наконецъ — въ третій. Тогда Февронія, не дошивъ на воздухахъ только ризы одного святаго, лицо же его нашивъ, оставила работу. Воткнула иглу въ воздухи, привертѣла ее ниткою, которою шила, и послала къ князю Петру, увѣдомить его о п_р_е_с_т_а_в_л_е_н_і_и к_у_п_н_о_м_ъ 1).
1) 25 іюня 1228 года.
Неразумные же люди, какъ при жизни ихъ возмущались, такъ и но честномъ ихъ преставленіи. Презрѣвъ ихъ завѣщаніе, бояре положили тѣла ихъ въ разные гробы, говоря, что въ монашескомъ образѣ не подобаетъ класть князя и княгиню въ одномъ гробѣ. И такъ князя Петра положили въ особомъ гробѣ, внутри города, въ соборномъ храмѣ Богородицы, а Февронію за городомъ, въ женскомъ монастырѣ, въ церкви Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста (гдѣ былъ найденъ Агриковъ мечъ); общій же гробъ, который князь и княгиня, еще при жизни своей, велѣли вытесать изъ одного камня, бояре велѣли оставить пустымъ въ томъ же соборномъ храмѣ. Но на другой день особные гробы очутились пусты, и оба тѣла лежали въ общемъ гробѣ. Ихъ опять разлучили, и опять на другой день оба тѣла были вмѣстѣ. Но потомъ ужъ никто не осмѣлился прикоснуться къ тѣмъ святымъ тѣламъ, которыя такъ и остались въ одномъ гробѣ.


X.
правитьСвѣтская литература: повѣсти и сказки. — Восточное и византійско-славянское вліяніе. — Вліяніе западное. — Пересажденіе иноземныхъ сказаній на русскую почву.
правитьРукописи, сохранившіяся намъ отъ XV вѣка, уже много заключаютъ въ себѣ «повѣстей и сказокъ», самаго разнообразнаго содержанія, слѣдовательно такихъ произведеній, которыя принадлежатъ къ чисто-свѣтской литературѣ, не имѣютъ ничего общаго съ литературой духовной и тѣми родами ея (поучительнымъ и историческимъ), какіе уже были разсмотрѣны нами въ предъ-идущихъ главамъ. Самая внѣшность этихъ рукописей XV вѣка — тщательное письмо, красивыя заставки и вычурно разрисованныя заглавныя буквы ихъ — все указываетъ прямо на значительную популярность ихъ между грамотными людьми русскими; а замѣчательное количество списковъ одного и того же произведенія этой литературы повѣстей и сказокъ и, сверхъ того, упоминаніе встрѣчающихся въ ней лицъ и подробностей разсказа въ произведеніяхъ нашихъ книжниковъ, задолго до XV вѣка — свидѣтельствуютъ о томъ, что эта литература въ XV вѣкѣ была уже не новостью для нашихъ грамотныхъ предковъ. Отличительною чертою всѣхъ произведеній этой литературы повѣстей и сказокъ является прежде всего то, что ни одна изъ нихъ не принадлежитъ русской почвѣ и въ содержаніи своемъ не представляетъ ничего общаго съ русскою національною жизнью, ничего общаго съ русскою народною литературой и тѣмъ богатымъ запасомъ преданій, который для нея послужилъ основой. Всѣ повѣсти и сказки, появляющіяся въ рукописяхъ нашихъ XV и XVІ столѣтія, вплоть до XVІІ вѣка, представляютъ собою рядъ переводовъ и передѣлокъ литературныхъ, принадлежащихъ довольно разнообразнымъ источникамъ, и при томъ довольно рано проникнувшихъ въ нашу литературу. Только уже въ XVІІ вѣкѣ, какъ мы увидимъ далѣе, являются у насъ на Руси первыя попытки создать свою, самостоятельную повѣсть, основанную на сюжетахъ, заимствованныхъ изъ нашей собственной, народной русской жизни.
Есть основаніе думать, что первыя произведенія свѣтской литературы, при посредствѣ болгарской и сербской письменности, были занесены къ намъ на Русь въ началѣ XIII и даже въ XII вѣкѣ, т. е. тогда, какъ грамотность утвердилась и распространилась у насъ на столько, что любовь къ чтенію стала способствовать развитію, среди людей грамотныхъ, потребности въ чтеніи разнообразномъ. Такимъ образомъ, вѣроятно, проникли къ намъ, въ видѣ южно-славянскихъ пересказовъ, средне-вѣковыя сказанія объ Александрѣ Македонскомъ и Троянской войнѣ. Рядомъ съ этими преданіями, при посредствѣ письменности сербской и болгарской, переходили къ намъ, въ ранній періодъ до XIV—XV в., и сказочныя произведенія азіятскаго востока, съ которымъ Византія стояла въ такихъ тѣсныхъ сношеніяхъ, и отрывки индійскаго животнаго эпоса, заимствованныя изъ К_а_л_и_л_ы и Д_и_м_н_ы 1), или же сказки, извлеченныя изъ обширнѣйшаго арабскаго сборника, извѣстнаго подъ названіемъ «Т_ы_с_я_ч_и и О_д_н_о_й н_о_ч_и». Изъ этого сборника, несомнѣнно, была заимствована одна изъ древнѣйшихъ повѣстей русскихъ, «п_о_в_ѣ_с_т_ь о С_и_н_а_г_р_и_п_ѣ, ц_а_р_ѣ А_д_о_р_о_в_ъ и Н_а_л_и_в_ь_с_к_і_я с_т_р_а_н_ы» или «Слово объ Акирѣ Премудромъ», съ содержаніемъ котораго мы долгомъ считаемъ здѣсь же познакомить читателей, такъ какъ оно представляетъ намъ, вѣроятно, древнѣйшій образецъ повѣсти, пересаженной на русскую почву 2).
1) Арабская передѣлка индійскаго сборника сказокъ о животныхъ, извѣстнаго подъ названіемъ Г_и_т_о_п_а_д_е_с_ы.
2) При этомъ нельзя не упомянуть и того знаменательнаго факта, что «повѣсть о Синагрипѣ» была уже отыскана Мусинымъ-Пушкинымъ въ томъ самомъ сборникѣ, съ котораго издано имъ было «Слово о п. Игоревѣ».
Главнымъ героемъ повѣсти является нѣкто «Акиръ Премудрый» — вельможа царя Сенеграфа, правящаго землей Алевицкой и Анизорской. Акиръ всѣмъ обладалъ — и богатствомъ, и мудростью, и славой, и высокимъ почетомъ въ государствѣ. Недоставало ему только дѣтей и онъ пламенно молился Богу о томъ, чтобы Богъ даровалъ ему наслѣдника. Свыше, однакоже, было указано ему, чтобы «въ сына мѣсто» взялъ онъ къ себѣ сына сестры своей, Анадана. Премудрый Акиръ исполнилъ волю неба и воспиталъ Анадана, какъ родное дитя, научилъ его всякой премудрости «земной и небесной, словно сосудъ наполнилъ жемчугомъ много-цѣннымъ» и ввелъ его въ милость у царя Сенеграфа. За все это Анаданъ заплатилъ Акиру самою черною неблагодарностью, обвинилъ его передъ царемъ въ измѣнѣ и такъ умѣлъ вооружить Сенеграфа противъ своего благодѣтеля, что тотъ не пустилъ Акира къ себѣ на глаза и велѣлъ своему конюшему, Анбугилу, предать его злой смерти. Однако-же Анбугилъ, многимъ обязанный Акиру, вмѣсто него казнилъ преступника Сутура, а самого Акира спасъ отъ смерти, посадивъ его на Сутурово мѣсто, въ темницу.
Всѣ оплакивали Акира, а Сенеграфъ-царь отдалъ все имѣніе и дворъ Акировъ неблагодарному Анадану. Тутъ вдругъ является отъ восточнаго царя, «Фараона Египецкаго», грозный посолъ Елтега, и предлагаетъ Сенеграфу отгадать «загадки фараоновы», а если не отгадаетъ — грозится полонить всю землю Сенеграфову и поработить весь народъ его. Сенеграфъ обѣщаетъ дать полцарства тому, кто избавитъ его отъ такой напасти: но никто изъ вельможъ его, ни самъ Анаданъ, не въ силахъ разрѣшить «Фараоновыхъ загадокъ». Тогда Анбугилъ рѣшается сообщить царю о томъ, что Акиръ Премудрый не казненъ по царскому велѣнію, а сидитъ въ темницѣ. Обрадованный царь Сенеграфъ спѣшитъ въ темницу и находитъ Акира окованнаго желѣзомъ по колѣни, «и обросшаго волосами съ головы и до земли, а бородою — до самаго пояса, а брови и голова у него — словно кирпичемъ крыты». Акиръ приказываетъ палками прогнать Елтегу, посла Фараонова, и самъ отправляется въ Египетъ, во главѣ блестящаго посольства. Тамъ изумляетъ онъ всѣхъ своею изобрѣтательностью и хитростью и вынуждаетъ царя Фараона признать себя побѣжденнымъ въ мудрости и платить тяжкую дань Сенеграфу. Въ вознагражденіе за эту услугу, Акиръ, вмѣсто великихъ даровъ, требуетъ отъ царя Сенеграфа, чтобы тотъ выдалъ ему сына его Анадана, что царь и исполнилъ по желанію его. Акиръ же приковалъ Анадана цѣпями къ самымъ городскимъ воротамъ и положилъ рядомъ съ ними три мѣдныхъ прута. И ударилъ его самъ Акиръ трижды, приговаривая такъ: «не рожденъ, такъ и не сынъ, не купленъ — такъ и не холопъ»; и приказалъ онъ всѣмъ гражданамъ алевицкимъ и анизорскимъ, всѣмъ кто пройдетъ черезъ тѣ городскія ворота, точно также бить и позорить Анадана всякій день, а смерти не предавать. Анаданъ же черезъ нѣсколько дней умеръ и тѣло его было брошено псамъ на съѣденіе. А самъ Акиръ началъ по прежнему служить царю Сенеграфу и продолжалъ собирать многолѣтнюю дань съ египетскато царства.

Тѣмъ же самымъ, византійско-славянскимъ путемъ переходили къ намъ на Русь и такія смѣшанныя сказанія, какъ «и_с_т_о_р_і_я о В_а_р_л_а_а_м_ѣ и І_о_с_а_ф_а_т_ѣ», въ которыхъ нравоученія, навѣянныя христіанскими воззрѣніями, выражались въ видѣ цѣлаго ряда притчей и отдѣльныхъ сказаній, довольно неловко вставленныхъ въ рамку незамысловатой повѣсти. Содержаніе этой повѣсти замѣчательно просто: мудрый пустынникъ Варлаамъ обращаетъ въ христіанство индійскаго царевича Іосафата, не смотря на всѣ гоненія со стороны жестокаго отца его, Авенира. Варлаамъ является къ царевичу подъ видомъ купца, продающаго драгоцѣнный камень, и объясняетъ Іосафату, что камень этотъ изображаетъ царствіе небесное, котораго всего легче достигнуть уединеніемъ и молитвою. Несмотря на всю эту немногосложность содержанія, повѣсть должна была нравиться неприхотливымъ русскимъ читателямъ не только по тому нравоучительному тону, который совершенно совпадалъ съ преобладавшимъ въ литературѣ поучительнымъ направленіемъ, но еще и по множеству притчей, аллегорій и сравненій, которыми былъ обставленъ простой сюжетъ ея. Вообще, нельзя не замѣтить, что п_р_и_т_ч_а и з_а_г_а_д_к_а, какъ доказательство или какъ проявленіе мудрости (отчасти, вѣроятно, и подъ вліяніемъ библейскихъ книгъ, заключающихъ въ себѣ загадки и притчи), чрезвычайно нравились большинству читающихъ въ теченіе всего періода среднихъ вѣковъ, не только у насъ, но и на западѣ; вслѣдствіе этого, имя Соломона, какъ символъ величайшей мудрости, уже въ самомъ началѣ среднихъ вѣковъ явилось во главѣ цѣлаго ряда сказаній, почти исключительно состоявшихъ въ изложеніи нескончаемыхъ состязаній этого мудреца съ другими, осмѣлившимися хвалиться передъ нимъ своею мудростью или знаніями. Преданія о Соломонѣ, перемѣшавшись съ различными апокрифическими сказаніями и отчасти съ народными сказками, перешли во множествѣ на русскую почву и съ юга, и съ запада, и способствовали тому, чтобы и у насъ, какъ и на западѣ, мудрость Соломонова, въ средѣ книжниковъ нашихъ стала такимъ же нарицательнымъ обозначеніемъ извѣстныхъ личныхъ свойствъ, какъ и х_р_а_б_р_о_с_т_ь А_л_е_к_с_а_н_д_р_о_в_а.
Сверхъ этихъ сказаній и повѣстей, являвшихся на нашей почвѣ литературной при посредствѣ южно-славянскихъ переводовъ и передѣлокъ съ византійскаго текста, впослѣдствіи, въ видѣ непосредственныхъ переводовъ съ греческаго, стали являться на Руси и нѣкоторыя изъ мѣстныхъ византійскихъ сказаній, въ которыхъ героями являлись лица историческія, породившія своею дѣятельностью цѣлые циклы греческихъ народныхъ пѣсенъ; къ числу такихъ произведеній принадлежитъ, напримѣръ, прекрасная повѣсть «о дѣяніи Девгеніевѣ»; содержаніе ея мы передадимъ здѣсь вкратцѣ, чтобы ознакомить читателей и съ этимъ особымъ видомъ древне-русской повѣсти которой основа заимствована изъ византійской поэмы X вѣка.
Въ этой повѣсти разсказывается о томъ, какъ сарацинскій или аравитскій царь, Амиръ, влюбился въ дочь одной набожной вдовы царскаго рода въ землѣ греческой; онъ собралъ войско, пошелъ воевать землю греческую и, похитивъ ту дѣвушку, скрылся. Вдова посылаетъ трехъ сыновей своихъ въ погоню за похитителемъ: «идите» — сказала она — «нагоните Амира-царя и отбейте у него сестру свою, или сами тамъ за нее головы положите». Братья снарядились и устремились вслѣдъ похитителю, «словно ястребы златокрылатые». На границѣ земли аравитской встрѣтились они со стражей Амира и начали убивать ее, «какъ добрые косцы траву косятъ». Пріѣхавши потомъ въ станъ царя Амира, братья подняли на копья царскій шатеръ, и Амиръ предложилъ имъ бросить жребій — кому изъ нихъ троихъ достанется биться съ нимъ за сестру; жребій былъ брошенъ трижды, и трижды выпадалъ на долю младшаго брата. Амиръ былъ имъ побѣжденъ на поединкѣ, но изъявилъ согласіе принять истинную вѣру, если братья отдадутъ за него сестру свою замужъ. Братья спросили ее, какъ она жила у царя Амира; та разсказала имъ о его почтительномъ обхожденіи съ нею и прибавила, что если Амиръ согласенъ креститься, то имъ нечего искать зятя лучше его, потому онъ «и славою славенъ, и мудростью мудръ, и силою силенъ, и богатствомъ богать». Братья согласились на бракъ Амира съ сестрою, а царь Амиръ, отказавшись отъ своего царства и захвативъ съ собою несмѣтныя сокровища, переселился въ греческую землю, гдѣ и женился на греческой царевнѣ. Черезъ нѣсколько времени у Амира родился сынъ, и прозванъ былъ Акритомъ; въ крещеніи же дали ему имя «п_р_е_к_р_а_с_н_ы_й Д_е_в_г_е_н_і_й». Онъ росъ не по днямъ, а по часамъ; по тринадцатому году сталъ онъ упражняться въ воинскихъ потѣхахъ, а самъ былъ весьма красивъ собою: лицо у него было какъ снѣгъ бѣлое, румянецъ (въ щекахъ), словно маковъ цвѣтъ, волосы — словно золото, а глаза — большіе, словно чаши. Однажды, когда отецъ, Амиръ, выѣхалъ съ сыномъ на охоту, Девгеній изумилъ его и всѣхъ спутниковъ своей неустрашимостью въ борьбѣ съ дикими звѣрями; тутъ же удалось ему убить четырехглаваго змѣя; и съ тѣхъ поръ сталъ онъ помышлять о ратныхъ подвигахъ. Однимъ изъ первыхъ подвиговъ его является борьба съ нѣкіимъ богатыремъ Филипатомъ и побѣда не только надъ нимъ, но и надъ его воинственною дочерью Максиміаной, послѣ того, какъ онъ не поддался на ихъ хитрости и имъ не удалось вѣроломно завлечь къ себѣ молодаго витязя. Побѣжденный Девгеніемъ Филипатъ открываетъ ему, что есть на свѣтѣ витязь и храбрѣе, и сильнѣе Девгенія — какой-то Стратигъ, и у него Стратига — четыре богатыря-сына и дочь С_т_р_а_т_и_г_о_в_н_а, одаренная, сверхъ красоты, мужествомъ и храбростью, свойственными мужчинѣ. Эта красавица — по словамъ Филипата — отвергла уже многихъ королей и князей, которые тщетно добивались руки ея. За такое извѣстіе Девгеній обѣщалъ отпустить Филипата на свободу; но ему хотѣлось сперва убѣдиться въ справедливости его словъ. Съ этой цѣлью, онъ сдаетъ Филипата подъ надзоръ отцу своему, а Максиміану — матери, и, несмотря на всѣ увѣщанія Амира, отправляется искать новыхъ подвиговъ. Повѣсть оканчивается, полнымъ торжествомъ Девгенія надъ Стратигомъ и его сыновьями; Девгеній женится на Стратиговнѣ, получаетъ громадныя богатства за ней въ приданое и съ торжествомъ возвращается домой. Есть нѣкоторое основаніе предположить, что сказанія, подобныя только что упомянутому нами «дѣянію Девгеніеву», стали заноситься къ намъ на Русь именно въ то время, когда письменность южно-славян ская перестала быть для нашей литературы посредствующимъ звеномъ, связывавшимъ ее съ литературою византійскою. Это долж но было произойти именно около того времени, когда пала политическая независимость южно-славянскихъ государствъ, т. е. около половины ХІV вѣка. Около того же времени, непосредственныя сношенія наши съ западомъ, черезъ Псковъ и Новгородъ, а потомъ черезъ Литву и Польшу, до такой степени усилились и на столько сдѣлались частыми, что къ намъ стали п_р_я_м_о с_ъ з_а_п_а_д_а проникать нѣкоторыя произведенія средневѣковой рыцарской романтической литературы, а также и множество мелкихъ отдѣльныхъ произведеній, принадлежащихъ обширнымъ сборникамъ новеллъ и сказокъ, многочисленными обработками которыхъ литература европейская особенно обогатилась именно въ теченіе XIV и XV вв.
На первый взглядъ каждому можетъ показаться очень страннымъ то обстоятельство, что такія разнородныя сказанія, въ видѣ переводовъ и сокращенныхъ передѣлокъ проникшія къ намъ въ теченіе трехъ или четырехъ столѣтій съ разныхъ сторонъ, находившія себѣ читателей и переписчиковъ, могли все же не побудить ни одного изъ нихъ къ воспроизведенію подобнаго же литературнаго рода на основаніи своихъ собственныхъ литературныхъ преданій. Разрѣшая этотъ вопросъ, нельзя не напомнить прежде всего о томъ, что тяжкое татарское иго положило рѣзкую грань между древнѣйшимъ періодомъ нашей литературы и дальнѣйшею ея исторіею. Народныя начала, которыя только было начали выказываться въ первыхъ проявленіяхъ свѣтской литературы нашей и въ дружинномъ эпосѣ XII в., были вдругъ подавлены страшнымъ погромомъ татарскимъ, надолго пріостановившимъ на Руси всякую возможность нравственной и умственной жизни, всякое стремленіе къ просвѣщенію, къ развитію литературы, даже къ простой грамотности. Время татарскаго владычества отозвалось замѣтнымъ усыпленіемъ и застоемъ, продолжавшимся въ теченіе трехъ послѣдующихъ вѣковъ; къ тому же, въ это самое время, какъ мы уже упоминали выше, грамотность сдѣлалась почти исключительнымъ достояніемъ одного духовнаго сословія, а оно менѣе всего способно было внести въ литературу начала народныя, во-первыхъ, потому, что слѣпо преклонялось передъ всѣмъ, что исходило изъ Византіи; а во-вторыхъ, и потому еще, что ко всему народному относилось оно не только съ недовѣріемъ, но даже съ отвращеніемъ, какъ къ такому жизненному началу, которое носило на себѣ слѣды язычества, слѣды старины нечистой, не просвѣщенной христіанствомъ. Нельзя, впрочемъ, отрицать того факта, что были попытки создать и самостоятельную повѣсть русскую, по образцу занесенныхъ къ намъ подобныхъ же произведеній греко-славянскаго и западнаго міра. Попытки эти выражались не въ видѣ сюжетовъ, прямо заимствованныхъ изъ народной жизни, но въ видѣ сюжетовъ, которые въ обработкѣ своей были сближены съ народною жизнью и съ тѣми образцами, которыми народъ особенно дорожитъ въ своей поэзіи. Только одинъ изъ подобныхъ первыхъ опытовъ русской повѣсти принадлежитъ русскому автору и потому имѣетъ для насъ особый интересъ; она извѣстна подъ названіемъ «С_л_о_в_а о к_у_п_ц_ѣ Б_а_с_а_р_г_ѣ» и разсказывается въ ней исторія кіевскаго гостя Басарги и его сына, прозваннаго Борзосмысломъ и Мудросмысломъ, которую мы приводимъ въ концѣ этой главы. Всѣ другія, относящіяся къ этому же отдѣлу повѣсти, по сюжету своему, были чуждаго происхожденія, но на русской литературной почвѣ получили нѣкоторую новую обстановку и поставлены были въ такія условія, при которыхъ содержаніе ихъ должно было казаться особенно понятнымъ и привлекательнымъ для русскихъ читателей. Сюда относятся, напримѣръ, «сказанія о вавилонскомъ царствіи», «о судахъ Соломоновыхъ», «о Соломонѣ и Китоврасѣ» — царѣ-волшебникѣ, который днемъ правилъ въ образѣ человѣка надъ людьми, а ночью оборачивался въ К_и_т_о_в_р_а_с_а и правилъ надъ звѣрьми.
Но всѣмъ этимъ попыткамъ создать нѣчто самостоятельное въ повѣствовательномъ родѣ и притомъ основанное на народныхъ началахъ, конечно, должна была сильно препятствовать та легкость заимствованья съ почвы византійской, которая доставляла полнѣйшую возможность удовлетворенія потребности грамотныхъ русскихъ людей въ разнообразномъ и занимательномъ чтеніи. Этимъ путемъ заимствованья, при посредствѣ южно-славянскихъ литературъ, было тѣмъ болѣе легко угодить читателямъ, что Византія доставляла намъ и могла доставлять только такія повѣствованія и поэтическія сказанія, Которымъ нѣмецкіе ученые дали весьма мѣткое названіе с_т_р_а_н_с_т_в_у_ю_щ_и_х_ъ сказаній. При самомъ отдаленномъ и разнообразномъ происхожденіи, съ востока и запада, изъ Индіи и Греціи, они, по отношенію къ содержанію своему, носили на себѣ такой колоритъ общедоступности, такъ легко поддавались всевозможнымъ видоизмѣненіямъ, сокращеніямъ и дополненіямъ, сообразно мѣстнымъ условіямъ быта и уровню образованности, господствовавшимъ въ той или другой странѣ, что въ самое короткое время эти сказанія пріобрѣтали себѣ громадную извѣстность и свободно переносились съ одного конца Европы на другой, не затрудняясь на пути своемъ никакими гранями, никакими различіями національностей, общественнаго строя и развитія. Весьма естественно могло, слѣдовательно, произойти то, что при множествѣ тягостныхъ условій, замедлявшихъ или даже подавлявшихъ у насъ всякую возможность развитія народной литературы на основаніи самобытныхъ русскихъ началъ, — эта легкая переводная, общедоступная и занимательная по содержанію, литература пришлась очень по вкусу грамотнымъ предкамъ нашимъ, стала удовлетворять ихъ незатѣйливымъ потребностямъ и даже, до нѣкоторой степени, способствовала тому, чтобы въ нихъ еще долго не пробудился вкусъ къ подобной же національной литературѣ. Книжники наши, заимствуя цѣликомъ сюжеты изъ литературъ иностранныхъ, довольствовались только тѣмъ, что мѣстами подправляли ихъ и примѣняли къ русскимъ нравамъ, перемѣняли и обезображивали собственныя имена дѣйствующихъ лицъ, да тамъ и сямъ вставляли, словно жемчужинки въ оправу, то русскую пословицу, то народную загадку, то какое нибудь сравненіе, прямо взятое изъ простонароднаго быта. Собственно же говоря, легкая повѣсть, основанная на сюжетѣ, заимствованномъ изъ русскаго быта, является у насъ не ранѣе XVII столѣтія, да и тогда еще составляетъ у насъ явленіе исключительное, единичное, а не результатъ цѣлаго направленія, вы-званнаго любовью къ своему, родному, домашнему, или разумнымъ предпочтеніемъ этого роднаго чужому.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВЪ ДЕСЯТОЙ.
правитьПовѣсть о Басаргѣ купцѣ.
правитьБылъ въ городѣ Кіевѣ купецъ, именемъ Дмитрій Басарга, и случилось ему нѣкогда отплыть отъ города Кіева въ кораблѣ, по морю, на куплю, и взялъ онъ съ собою для утѣшенія сына своего Мудросмысла. (Такъ звали его сына потому, что разумомъ былъ онъ силенъ не по лѣтамъ). И взялъ онъ съ собою немало рабовъ; и (едва только) отплылъ отъ берега по морю, какъ поднялся вѣтеръ, корабль стало носить по морю, отбило всѣ снасти — и такъ носило его по морю на кораблѣ 30 дней. И купецъ Дмитрій поднялъ руки къ небу и сталъ молиться и плакать, вмѣстѣ съ дѣтищемъ своимъ Мудросмысломъ и съ отроками. И внезапно примчало его вѣтромъ къ великому и богатому городу, въ которомъ жилъ царь невѣрный, а жители того города были христіане. Обрадовался купецъ и повернулъ корабль къ берегу, къ пристани того города и увидѣлъ на пристани того города 330 кораблей, и узналъ, что та земля богата и торгуютъ въ ней купцы многіе, приставая къ тому городу. Пошелъ онъ съ корабля въ городъ, и встрѣтился съ Дмитріемъ купцомъ гражданинъ того города, и сказалъ ему, Дмитрію: «какой ты вѣры?» И сказалъ Дмитрій: «я — христіанинъ, вѣрую въ Отца и Сына и св. Духа, и въ св. Троицу, единосущную и нераздѣльную». И сказалъ ему гражданинъ: «ты съ нами одной вѣры, толь-ко за наши согрѣшенія Богъ намъ далъ короля законопреступника и намъ христіанамъ гонителя, и приводитъ онъ насъ и насильствуетъ къ своей вѣрѣ поганой. Тѣмъ купцамъ, которые хотятъ въ его царствѣ торговать, онъ загадываетъ три мудрыя загадки, и кто отгадаетъ — тотъ торгуетъ въ царствѣ невозбранно всякими товарами; а кто не отгадаетъ — тѣхъ принуждаетъ къ своей поганой вѣрѣ, и кто въ его поганую вѣру учнетъ вѣровать — тѣмъ (тоже) даетъ торговать, и изъ царства своего отпускаетъ съ честью: а если кто трехъ его загадокъ не отгадаетъ, и въ вѣру его не преклонится, тѣхъ корабельщиковъ онъ посѣкаетъ мечомъ и въ темницу сажаетъ, и нынѣ въ темницѣ сидитъ 330 корабельщиковъ, да (вотъ) ужъ и гражданамъ-то царь воспрещаетъ для нихъ хлѣбы печь — хочетъ, чтобы съ голоду перемерли». Услышавъ это отъ гражданъ, купецъ Дмитрій, скоро возвратившись на корабль, увидѣлъ на немъ царевыхъ стражей, ибо таково было уложеніе царя въ томъ царствѣ: какъ придетъ корабль изъ которой нибудь страны, такъ царь и повелитъ сторожамъ своимъ стеречь и корабль, и корабельщика, чтобы не уплыли. Купецъ-же Дмитрій, видя на кораблѣ своемъ царевыхъ сторожей и взявъ на немъ многіе дары, пошедъ къ царю, которому имя было Несміянъ. И явясь передъ царя, сказалъ: «царь Несміянъ! я гражданинъ города Кіева, купчишко Дмитрій Басарга, и вотъ я тебѣ челомъ бью, чтобы ты, государь-царь, дары принялъ и торговать въ своемъ царствѣ позволилъ всякими товарами». Царь же сказалъ: «купецъ Дмитрій! приходи ко мнѣ обѣдать, а дары я отъ тебя приму». Спустя нѣкоторое время Дмитрій пришелъ къ царю обѣдать, и послѣ обѣда вопросилъ его царь: «купецъ, какой ты вѣры?» Купецъ же сказалъ: «я — вѣры христіанской, города Кіева гражданинъ, купчишко Дмитрій, вѣрую въ единаго Бога Отца и Сына и св. Духа». И сказалъ ему царь: «я полагалъ, что ты со мною одной вѣры, и хотѣлъ было дать тебѣ волю торговать въ своемъ царствѣ, и хотѣлъ было отпустить тебя изъ своего царства съ великою почестью, и съ дарами и съ проводниками, а ты вотъ говоришь мнѣ, что ты — вѣры христіанской; такъ вотъ и отгадай же мнѣ, купецъ, три загадки: первая — много-ли, мало-ли всего отъ востока и до запада? Вторая — чего десятая часть днемъ во всемъ мірѣ убываетъ, а ночью — прибываетъ? Третья — что есть то, чтобы не смѣялся поганый надъ христіанами? Скажи мнѣ, — если отгадаешь, повелю тебѣ торговать въ своемъ царствѣ всякими товарами, и даръ отъ тебя приму; а если не отгадаешь, то покинь свою вѣру и перейди въ мою, и я воздамъ тебѣ великую честь. Если же загадокъ моихъ не отгадаешь, ни въ вѣру мою не захочешь перейти, то пусть же будетъ тебѣ, купцу, вѣдомо, голову тебѣ отрублю, а товаръ твой велю взять въ свою царскую казну». Купецъ же Дмитрій долго стоялъ, поникнувъ головою, не зная, что и отвѣтить царю. «Государь мой! сказалъ онъ (наконецъ), дай мнѣ сроку на пять дней», — и далъ ему царь. Купецъ же Дмитрій поклонился царю и пошелъ на корабль свой съ великимъ плачемъ и рыданіемъ, ожидая отъ царя смерти, болѣе же оплакивая сына своего Мудросмысла, съ которымъ ему предстояло разлучиться и погибнуть. И оставилъ ребенокъ игру свою, и скоро пришелъ къ отцу своему Дмитрію и сказалъ: «отчего же это, отецъ, я вижу тебя столь печальнымъ? Или тебѣ въ этомъ царствѣ приключилась какая-нибудь немочь?» И сказалъ Дмитрій сыну: «дитя мое возлюбленное! тѣшишься ты дѣтскими играми, а у меня, отца своего, — великая печаль (на сердцѣ), и не вѣдаешь ты, что приближается къ тебѣ время разлуки со мною, а къ моей головѣ — царевъ мечъ: царь рѣшилъ, что я долженъ или умереть, или отречься отъ христіанской вѣры и присоединиться къ царевой вѣрѣ!» Сказало (тогда) дитя Мудросмыслъ къ отцу своему Дмитрію: «разскажи мнѣ, отецъ, что тебѣ царь говорилъ. И помолись Создателю нашему Творцу, единому славимому Богу нашему, Іисусу Христу и пречистой Его Матери. И если разскажешь мнѣ, я помогу тебѣ силою распятаго Бога нашего и пречистой Богоматери, и избавитъ тебя Богъ отъ царева меча, и со мною, возлюбленнымъ сыномъ, не разлучишься, и отъ христіанской вѣры не отступишь, и къ поганой вѣрѣ не будешь приневоленъ. Если же мнѣ, сыну своему, не скажешь, то примешь отъ царя смерть, и меня, неповиннаго, погубишь». И, услышавъ отъ сына своего такія рѣчи, Дмитрій сказалъ: «вотъ изъ-за чего я печалюсь и плачу; — велѣлъ мнѣ царь три загадки отгадать, и никто ихъ не отгадалъ, и 330 купцовъ сидятъ за тѣ загадки въ темницѣ… И попросилъ я у царя сроку на пять дней и въ шестой день велѣлъ мнѣ царь передъ собою стать и загадки отгадать; а я человѣкъ несмысленный, царевыхъ загадокъ отгадать не смыслю». И сказалъ ему сынъ его: «скажи мнѣ, отецъ, царевы загадки». И сказалъ ему отецъ загадки, и дитя посмѣялося царевымъ загадкамъ и отцову рыданью, и сказало отцу своему: «прости меня, отецъ, посмѣялся я глупости этого поганаго царя и твоему простому рыданію; отнынѣ, отецъ, перестань печалиться и рыдать, и коли не можешь утолить печали, я тебѣ, отецъ, помогу: предоставь волѣ Божьей печаль свою и помолись съ вѣрою, чтобы Богъ насъ избавилъ отъ этой печали и царевой страсти, и не удастся поганымъ посмѣяться надъ христіанами, и я его царевы загадки отгадаю». И взялося дитя за игрушки свои, и начало играть и веселиться пуще прежняго. Купецъ же Дмитрій не повѣрилъ сыну, такъ какъ разумъ у него былъ еще дѣтскій; всѣ пять дней плакалъ онъ горько и недоумѣвалъ, какъ отвѣчать. Когда же разсвѣло на шестой день, призвалъ отецъ сына и сказалъ ему: «дитя мое милое, Мудросмыслъ, уже къ головѣ моей приближается царевъ мечъ и я внутренно предчувствую разлуку съ тобою, такъ какъ уже насталъ день, до котораго я у царя выпросился!» Отрокъ же засмѣялся и сказалъ: «прости меня, государь, виноватъ». И повелѣлъ отрокъ отцу своему идти передъ царя смѣло, повелѣлъ и себя взять съ собою, и еще одного раба: «пусть будетъ воля Господня» (сказалъ онъ). И пошелъ съ отцомъ своимъ къ царю, и сталъ предъ царя; и сказалъ царь: «купецъ! насталъ день,, о которомъ ты просилъ меня; теперь отгадай мои загадки!» И сказалъ купцовъ сынъ, Мудросмыслъ: «царь Несміянь! не подобаетъ тебѣ мудрствовать загадками, какъ дѣти въ играхъ или женщины на вечеринкахъ, да еще состарѣвшихся заставлять отгадывать: это женская и дѣтская потѣха, и я тебѣ загадки отгадаю; дай мнѣ, царь, напиться!» И сказалъ царь дитяти: «отойди прочь, глупецъ, пока я тебя не закололъ мечомъ; не тебѣ повелѣваю отгадывать, но этому купцу». И сказало дитя царю: «я любимый сынъ этого купца; я тебѣ за отца загадки отгадаю, потому онъ старъ, а сѣдины уважать слѣдуетъ; гдѣ ему отгадать, что дѣти въ играхъ и женщины на вечеринкахъ загадываютъ! А коли я не отгадаю, то пускай же будетъ твой мечъ на виноватаго». Царь повелѣлъ налить золотую чашу меду и далъ купцу Дмитрію. Дмитрій же, испивъ чашу, хотѣлъ было отдать ее царю, и сказалъ Мудросмыслъ отцу своему: «отецъ, не отдавай царева даянія; царево даяніе не должно отъ рукъ отходить». Отецъ же, послушавъ своего сына, спряталъ чашу за пазуху; царь же, наливъ вторую чашу, далъ дитяти; дитя же, выпивъ чашу, (также спрятало ее за пазуху); и сказалъ царь дитяти: «скажу тебѣ женскую и дѣтскую потѣху, отвѣчай мнѣ: — много-ли, мало-ли всего отъ востока и до запада?» И сказало дитя: «ни много, ни мало — день да ночь; ибо солнце, вставъ на сѣверѣ, обходитъ кругъ небесный отъ востока до запада, и въ одинъ день и одну ночь приходитъ отъ сѣвера къ югу. Вотъ тебѣ, царь, отгадка моя». Царь же дивился умному его отвѣту и, наливъ чашу, далъ купцу и сыну, и рабу ихъ, и (потомъ) сказалъ дитяти: ,,Мудросмыслъ! вторую загадку отгадаешь мнѣ завтра, а нынче повеселимся" — и почтилъ царь купца, и сына его, и раба ихъ, и отпустилъ ихъ на корабль съ миромъ.
Поутру же царь повелѣлъ собраться на его царскій дворъ всѣмъ князьямъ и боярамъ, посмотрѣть на предивное чудо, какъ осьмилѣтній ребенокъ царевы загадки отгадываетъ. И возсѣлъ царь на престолѣ своемъ, и пришелъ купецъ Дмитрій съ сыномъ своимъ и съ рабомъ, и сталъ передъ царемъ, и поклонились они всѣ трое равно, до земли, и сказалъ царь Мудросмыслу: "отрокъ разумный! отгадывай мнѣ вторую загадку: — «чего десятая часть днемъ во всемъ мірѣ убываетъ, а ночью прибываетъ?» И сказало дитя: «днемь отъ солнца во всемъ мірѣ убываетъ десятая часть изъ моря, и изъ рѣкъ, и изъ озеръ; а ночью десятая часть въ нихъ же прибываетъ изъ глубины моря-окіана». Царь разъярился на умный отвѣтъ его и, немного помолчавъ, сказалъ купцу, сыну его и рабу ихъ: «третью загадку ты мнѣ завтра отгадаешь, а теперь — ступайте!» И пошли на корабль съ миромъ, и созвалъ поутру царь князей и бояръ, и сказалъ: «Какъ бы мнѣ не посрамиться передъ отрокомъ, — вѣдь вотъ какой ребенокъ, а загадки мои отгадываетъ! Такъ вотъ, какъ прійдетъ онъ и отгадаетъ третью загадку, и мы крикнемъ въ одинъ голосъ „умный отрокь“, — тогда хватайте. его, и рубите головы купцу и сыну его, и рабу ихъ». И въ ту самую пору пришедъ третій разъ купецъ, и сынъ его, и рабъ ихъ, и сталъ у престола царева, и поклонились они всѣ равно, до земли, и сказалъ царь: «мудрый и умный отрокъ! отгадывай третью загадку, чтобы не смѣялся поганый надъ христіанами». И сказалъ ребенокъ: «великій царь Несміянъ! ты высоко сидишь на престолѣ своемъ: а я отрокъ малый и малоумный, и хотя я твою загадку отгадаю, ты все же меня малоумнаго погубишь своими руками и мечомъ; а ты, царь, сойди съ престола, ради множества народа, чтобы моя отгадка для всѣхъ была ясна, и пусти меня на престолъ, и дай мнѣ новое одѣяніе, и мечъ, и жезлъ — и я твою загадку отгадаю всѣмъ на удивленье». И слыша тѣ слова мудраго отрока, царь впалъ въ неразуміе, и сошелъ съ престола, и пустилъ дитя на престолъ и далъ ему свой мечъ, жезлъ и одѣяніе. Дитя же, сѣвъ на престолѣ царскомъ, (вдругъ) вскричало громкимъ голосомъ: «князья и бояре, и всѣ вы — мужи и жены, вдовицы и отроки, и всякаго возраста люди! Въ какого Бога хотите вѣровать?» И возопили всѣ люди единогласно, какъ бы едиными устами: «хотимъ вѣровать въ Отца и Сына и Св. Духа!» Дитя же, взявъ мечъ, отсѣкло голову царю и сказало: «вотъ тебѣ и третья отгадка; — не смѣйся, поганый, христіанамъ!» И началась великая г_о_л_к_а (мятежъ) въ людяхъ и во всемъ томъ городѣ, и сказало дитя народу: «велите помолчать», — и замолкли всѣ люди, и сказало дитя мудрое и разумное: «князья и бояре, и всѣ люди-граждане! кого вы себѣ царемъ своимъ по-ставите?» И всѣ люди единогласно закричали дитяти: «ты, государь нашъ, избавилъ насъ отъ этого гонителя и мучителя, ты и будь намъ царемъ!» И сказало дитя: «коли вздумали надъ всѣмъ царствомъ избрать меня царемъ и государемъ, то сдѣлалось это Божіимъ промысломъ, а не вашимъ изволеніемъ! Кабы не Господь предалъ (мнѣ) этого гонителя и губителя христіанъ, то какъ бы я могъ дерзнуть на столь сильнаго царя? Я бы и взглянуть-то не смѣлъ на такое величество и гордость! Возвеличимъ Господа нашего Іисуса Христа, который даровалъ намъ побѣду на враговъ и избавилъ насъ отъ бѣды, отъ его поганой вѣры и законопреступленія».
И повелѣлъ царь корабельщиковъ привести, всѣхъ 330 купцовъ разныхъ царствъ, которые находились въ заточеніи, въ темницѣ. И удивился царь, глядя на нихъ: лица ихъ были, какъ земля, а волосы ихъ отросли до земли и покрывали имъ ноги, и все тѣло ихъ словно комарами было объѣдено, и платье на тѣлѣ ихъ истлѣло отъ ветхости. И прослезился царь при видѣ ихъ, вспомнивъ, какъ и ему, и отцу его грозила смерть отъ царя Несміяна, и возвратилъ имъ ихъ имущество, и отпустилъ каждаго изъ нихъ на родину; купцы же пошли на корабли свои, и потомъ каждый изъ нихъ (поплылъ) во свояси, славя Бога. И повелѣлъ царь темничнымъ сторожамъ снять замки и освободить сидѣвшихъ въ темницахъ и одѣлить ихъ щедрою милостынею. И сказалъ царь отцу своему Дмитрію: «отецъ мой! насъ Богъ избавилъ отъ напрасной смерти; уйми же, отецъ, слезы умиленія за избавленіе душъ нашихъ и помолися о мирѣ всего міра, чтобы намъ Господъ подалъ на всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ побѣду и одолѣніе и возвысилъ нашу десницу!» — И нарядилъ царь гонцовъ по всѣмъ государствамъ, и далъ имъ граматы (а въ тѣхъ граматахъ было написано), чтобы со всѣхъ царствъ ѣхали купцы на корабляхъ со всякими товарами, да и торговали бы ими въ царствѣ. (Мудросмысла) безъ всякаго запрета. И отпустилъ царь отца своего, и повелѣлъ привести мать свою и сродичей своихъ немедленно. И отецъ его Дмитрій сѣлъ на корабль свой, поплылъ по морю и, приплывъ въ свою землю, подъ городъ Кіевъ, разсказалъ женѣ своей и сродичамъ объ избавленіи своемъ отъ смерти и обо всемъ случившемся съ нимъ по порядку, и о томъ, какъ сынъ его Мудросмыслъ Дмитріевичъ правилъ царствомъ своимъ; мать же его обрадовалась. И собралъ Дмитрій весь свой родъ, и пришли они въ царство сына своего, славя Бога; и пришелъ (отецъ) въ царство сына своего и сталъ у пристани. И сказали граждане царю, что пришелъ на кораблѣ отецъ его и мать, и устроилъ имъ царь встрѣчу великую и почетную. И начало приходить множество купцовъ со многихъ царствъ и изъ многихъ городовъ, со всякими товарами, и разбогатѣло царство всякими узорочьями, золотомъ и серебромъ, и началъ царь Мудросмыслъ царствовать благостью Божьею безъ всякаго мятежа, и было царствованіе его славно и многолѣтно, и передалъ онъ царство дѣтямъ своимъ, и увидѣлъ сыновъ сыновей своихъ. Богу нашему слава, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Соломонъ и Китоврасъ.
правитьДревняя повѣсть начинается съ того, что былъ въ Іерусалимѣ царь Соломонъ, а въ городѣ Лукордѣ царствовалъ царь Китоврасъ; обычай же у того царя былъ такой: днемъ царствуетъ надъ людьми, а ночью оборачивается звѣремъ Китоврасомъ и царствуетъ надъ звѣрями; а по родству былъ онъ братъ царю Соломону. И прослышалъ тотъ царь Китоврасъ, что у Соломона есть жена красавица, и отправилъ къ нему нѣкоего волхва, въ видѣ купца, съ товарами, и съ непремѣннымъ повелѣніемъ похитить жену Соломонову. Волхвъ такъ и выполнилъ повелѣніе Китоврасово. Тогда Соломонъ собралъ войско, пошелъ въ землю Китовраса-царя и, приблизясь къ предѣламъ его царства, сдѣлалъ съ войскомъ такой уговоръ: «Какъ заиграю я въ рожокъ, такъ вы приготовьтесь идти мнѣ на помощь; какъ заиграю въ другой разъ, такъ вы поѣзжайте во мнѣ и станьте въ засадѣ; какъ въ третій разъ заиграю, такъ поспѣшайте ко мнѣ всѣ».
И пришелъ Соломонъ въ царство Китоврасово, какъ прохожій старецъ милостыню сбирать, и пришелъ въ садъ, гдѣ черпаютъ воду Китоврасу-царю, и вышла дѣвка по воду въ садъ съ золотымъ кубкомъ и сказалъ Соломонъ: «дай же мнѣ, дѣвица, изъ этого кубка напиться». И сказала ему дѣвка: «какъ ты, старецъ, хочешь пить изъ царскаго кубка; если кто увидитъ, и скажетъ царю — онъ велитъ за то насъ обоихъ казнить». — Соломонъ сказалъ: «дай же, дѣвка, напиться: никто у васъ этого не увидитъ» — и далъ ей за это колечко, и она дала ему напиться, и пошла дѣвка съ водою, радуясь, и сказала своей госпожѣ нашла кольцо на пути!" И вотъ увидѣла у нея то колечко Соломонова жена, а Китоврасова царица, и узнала въ томъ кольцѣ свое обручальное, и сказала: «скажи, кто тебѣ далъ это кольцо?» — Сказала дѣвка: «далъ мнѣ, госпожа, старецъ захожій». — А та сказала: «не старецъ онъ, а мужъ мой Соломонъ». И скоро разослала она многихъ людей своихъ по городу и повелѣла сыскать старца; тѣ, сыскавъ старца, привели его къ ней. Она же, увидѣвъ его, сказала ему: «Соломонъ, ты зачѣмъ сюда пришелъ?» И сказалъ Соломонъ: «пришелъ я по твою голову». — И сказала ему его жена: «самъ ты, Соломонъ, пришелъ по смерть свою и будешь повѣшенъ». И скоро послала Соломонова жена на поле людей своихъ за Китоврасомъ: «скажите Китоврасу такъ: — (повелѣла она) — „пришелъ ко мнѣ другъ, а твой, господинъ, недругъ“. Китоврасъ же скоро поѣхалъ ко двору своему и увидѣлъ Соломона у себя на царскомъ дворѣ, и сказалъ ему Китоврасъ: „ты, Соломонъ, зачѣмъ пришелъ ко мнѣ?“ И сказалъ Соломонъ: „пришелъ я къ тебѣ для того (чтобы спросить), за что ты укралъ жену мою?“ — И сказалъ ему Китоврасъ: — „али ты у меня, Соломонъ, хочешь украсть свою жену? У меня тебѣ не видать жены своей, а тебѣ отъ меня живу не быть“. И повелѣлъ царь Китоврасъ Соломона скоро повѣсить, и Соломонъ передъ царемъ Китоврасомъ началъ плакать, и сказалъ: „вѣдь ты братъ (мнѣ),; Китоврасъ; я былъ тебѣ братомъ и царствовалъ во Іерусалимѣ; повели же мнѣ дать царскую смерть, веди меня повѣсить съ почетомъ и вели тутъ вывезти много питій и яствъ, и ступай за мною самъ, и съ царицей своей, и вели быть всѣмъ людямъ градскимъ (по поводу) такой моей казни, и вели имъ пить и ѣсть, и меня, царя Соломона, поминать“. Китоврасъ же выслушалъ царя Соломона, да такъ и сдѣлалъ; и повелѣлъ Соломона вести на висѣлицу. И тогда привели Соломона къ висѣлицѣ и увидѣлъ Соломонъ на висѣлицѣ льняную петлю, и сказалъ Китоврасу: „ты мнѣ — братъ, Китоврасъ; а и неужели у тебя, во всемъ царствѣ твоемъ, не стало шелку? Пошли и вели купить краснаго да желтаго, и свить двѣ петли шелковыя, одну — красную, а другую желтую, и я тогда въ любую петлю кинуся“. Китоврасъ же повелѣлъ шелку купить краснаго да желтато, и свить петлю изъ краснаго, а другую изъ желтаго. И сказалъ ему Соломонъ: „ты мнѣ — братъ, Китоврасъ, вели же мнѣ поиграть въ малый рожокъ передъ послѣднимъ концомъ“. Китоврасъ же повелѣлъ ему, Соломону, играть въ рожокъ, и услышало войско Соломоново, и стало вооружаться. И какъ привели Соломона къ висѣлицѣ, то сказали Содомону немилостивые палачи: „иди, Соломонъ, на висѣлицу“. И Соломонъ пошелъ, и ступилъ на первую ступень, и сказалъ Соломонъ Китоврасу: „братъ Китоврасъ, дозволь мнѣ еще поиграть въ малый рожокъ“, — и царь Соломонъ заигралъ въ рожокъ, и въ тѣ поры Китоврасъ и все войско Китоврасово задумались; и услышало Соломоново войско и подошло близко и укрылось въ тайномъ мѣстѣ. И сказали Соломону немилостивые мастера: „царь Соломонъ, что ты мѣшкаешь?“ И Соломонъ пошелъ по лѣстницѣ и вскочилъ на верхнюю перекладину висѣлицы, а лѣстницу прочь оттолкнулъ, и началъ играть въ свой рожокъ. И борзо прискакало Соломоново войско къ нему, и повелѣлъ Соломонъ всѣхъ побивать, — и побѣжали тѣ городскіе люди, а царя Китовраса и жену, царицу, поймали и привели предъ царя Соломона. И сказалъ Соломонъ: „братъ Китоврасъ, ты мнѣ готовилъ висѣлицу и двѣ петли шелковыя, и хотѣлъ меня повѣсить не по винѣ моей, но по своему закоснѣлому сердцу, и за то самъ попался ко мнѣ въ руки, какъ ягненокъ въ когти волку, и терпи въ рукахъ моихъ: не бывать тебѣ живому“. И повелѣлъ царь Соломонъ повѣсить ихъ обоихъ — Китовраса въ красную петлю, а жену его, царицу — въ желтую петлю, а волхва ихъ въ льняную петлю; и повелѣлъ въ городѣ и остальныхъ людей всѣхъ побить, а царство Китоврасово огнемъ выпалить. А самъ царь Соломонъ пошелъ въ Іерусалимъ городъ, прославляя Св. Троицу, что невѣрнаго царя побилъ, а царство его поплѣнилъ и огнемъ попалилъ.
Богу нашему слава и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.


Апокрифическія сказанія и ихъ вліяніе на литературу народную: духовные стихи и духовныя пѣсни.
правитьЖелая оградить кругъ чтенія христіанскаго отъ вымысловъ и ухищреній разныхъ еретиковъ, которые, поддѣлываясь подъ тонъ и духъ Св. Писанія, составляли ложныя книги Ветхаго и Новаго Завѣта, Церковь признала правильными, дѣйствительно принадлежащими къ Св. Писанію лишь очень немногія книги, которымъ и дала названіе к_а_н_о_н_и_ч_е_с_к_и_х_ъ. Что же касается той громадной массы произведеній, которая, въ первые же вѣка христіанства, сложена была на основаніи Св. Писанія, и служила лишь болѣе или менѣе ложнымъ истолкованіемъ и развитіемъ содержанія его, то Церковь положительно отвергла всѣ подобныя писанія. Произведенія эти, извѣстныя подъ названіемъ книгъ а_п_о_к_р_и_ф_и_ч_е_с_к_и_х_ъ или с_о_к_р_о_в_е_н_н_ы_х_ъ, п_о_т_а_е_н_н_ы_х_ъ (отъ греческаго слова: а_п_о_к_р_ю_п_т_о — утаиваю, скрываю), находили себѣ однакоже весьма обширный кругъ читателей, и любители книжнаго ученія собирали ихъ и переписывали съ такимъ же рвеніемъ, какъ и книги Св. Писанія, творенія св. Отцевъ Церкви и житія прославляемыхъ Церковью подвижниковъ. Мало того: многія изъ апокрифическихъ писаній пользовались высокимъ уваженіемъ въ Христіанской Церкви и опредѣляли даже ея праздники, обряды, богослужебныя пѣсни.
Апокрифическія книги, рядомъ съ книгами каноническими (т. е. признанными Церковью), занесены были изъ Греціи въ Болгарію и даже переведены на болгарскій и сербскій языкъ. Отсюда-то, вмѣстѣ съ христіанствомъ, очень рано перешли онѣ и въ Россію; уже Несторъ заноситъ въ лѣтопись свою нѣкоторыя апокрифическія сказанія, вѣроятно, почерпнутыя имъ изъ краткой Палеи. Позднѣе количество апокрифовъ, перенесенныхъ къ намъ при посредствѣ болгарской и сербской литературы, возрастаетъ до чрезвычайности, и къ распространенію ихъ не встрѣчается никакихъ препятствій, потому что даже и такіе высшіе представители духовенства XIV в., какъ новгородскій архіепископъ Василій, не различаютъ въ значеніи книги каноническія отъ книгъ апокрифическихъ, которымъ даютъ названіе „книгъ божественнаго закона“.
Одновременно съ апокрифами перешло къ намъ множество другихъ книгъ, получившихъ свое начало отъ смѣшенія вѣрованій классическаго язычества съ народными суевѣріями среднихъ вѣковъ. При томъ грубомъ невѣжествѣ, среди котораго, въ началѣ среднихъ вѣковъ, коснѣла не только масса народа, но и большинство низшаго духовенства и монашества, суевѣрія и предразсудки массы должны были пріобрѣтать важное значеніе даже и въ глазахъ людей грамотныхъ; въ нихъ очень часто старались они отыскать истолкованіе многому, непонятному для нихъ въ природѣ и въ окружавшей ихъ дѣятельности, а съ другой стороны — на основаніи тѣхъ же суевѣрій и предразсудковъ, того же стремленія предполагать во всемъ тайный, скрытый смыслъ — придавали важное значеніе самымъ обыкновеннымъ явленіямъ и предметамъ. Такимъ путемъ сложилась мало по малу цѣлая литература гадательныхъ книгъ, почерпнутыхъ изъ круга народныхъ суевѣрій, въ родѣ „волховниковъ“, „трепетниковъ“, „сонниковъ“, въ родѣ сказанія „о двѣнадцати пятницахъ“ и молитвъ „о трясавицахъ“. Не только у насъ, но и на Западѣ духовенство не вполнѣ ясно сознавало вредъ подобныхъ книгъ. Образованнѣйшіе пастыри Церкви придали имъ, правда, названіе книгъ „отреченныхъ“ или „богоотметныхъ“ и уже довольно рано стали составлять въ назиданіе вѣрующимъ и_н_д_е_к_с_ы или списки запрещеннымъ книгамъ, но въ нихъ безразлично заносили и апокрифическія книги, и отреченныя. На этомъ основаніи, митрополитъ Кипріанъ (въ XIV в.), перечисляя въ статьѣ своей „о к_н_и_г_а_х_ъ и_с_т_и_н_н_ы_х_ъ и л_о_ж_н_ы_х_ъ“ различныя апо-рифическія сказанія, и предостерегая людей благочестивыхъ и богобоязненныхъ отъ общенія съ этой опасной и лживой литературой, рядомъ ставитъ въ своемъ спискѣ и такія произведенія, какъ З_а_в_ѣ_т_ъ д_в_ѣ_н_а_д_ц_а_т_и п_а_т_р_і_а_р_х_о_в_ъ, Х_о_ж_д_е_н_і_е Б_о_г_о_р_о_д_и_ц_ы п_о м_у_к_а_м_ъ, Е_в_а_н_г_е_л_і_е о_т_ъ В_а_р_н_а_в_ы, Е_в_а_н_г_е_л_і_е о_т_ъ Ѳ_о_м_ы и т. д., и такія, какъ О_с_т_р_о_н_о_м_і_я, З_е_м_л_е_м_ѣ_р_і_е, Ч_а_р_о_в_н_и_к_ъ, Г_р_о_м_н_и_к_ъ, С_н_о_с_у_д_е_ц_ъ (истолкователь сновъ), П_у_т_н_и_к_ъ (истолкователь различныхъ встрѣчъ), З_в_ѣ_з_д_о_ч_е_т_е_ц_ъ (руководство къ гаданію по звѣздамъ), хотя, въ сущности, между тѣми и другими очень мало общаго по внутреннему смыслу и значенію. Понятно однакоже, почему какъ тотъ, такъ и другой изъ вышеупомянутыхъ отдѣловъ нашей о_т_р_е_ч_е_н_н_о_й или а_п_о_к_р_и_ф_и_ч_е_с_к_о_й литературы пользовались одинаковою популярностью между грамотными предками нашими: — при ограниченномъ количествѣ книгъ, находившихся въ постоянномъ обращеніи, при однообразіи большинства ихъ, разнообразныя по содержанію произведенія отреченной литературы замѣняли грамотнымъ людямъ легкое чтеніе, давая нѣкоторую свободу фантазіи ихъ, а иногда и удовлетворяя любознательности ихъ разрѣшеніемъ такихъ вопросовъ, которые оказывались неразрѣшимыми никакимъ инымъ путемъ. Вотъ почему, въ XIV столѣтіи, въ то время, когда церкви часто нуждались въ богослужебныхъ книгахъ и терпѣли недостатокъ въ спискахъ Св. Писанія, въ обращеніи между грамотными людьми, по свидѣтельству митрополита Кипріана, много было толстыхъ сборниковъ, „и_с_п_о_л_н_е_н_н_ы_х_ъ б_а_с_е_н_ъ, х_у_д_ы_е н_о_м_о_к_а_н_о_н_ц_ы, л_ж_и_в_ы_я м_о_л_и_т_в_ы“ и т. д.
Сохранившіеся намъ рукописные сборники произведеній нашей древней литературы вполнѣ подтверждаютъ справедливость этого указанія. Пересматривая ихъ, съ полною очевидностью убѣждаемся, что „простодушный монахъ, переписывая отреченную книгу въ родѣ С_к_а_з_а_н_і_я о д_в_ѣ_н_а_д_ц_а_т_и п_я_т_н_и_ц_а_х_ъ, былъ убѣжденъ, что совершаетъ подвигъ христіанскаго благочестія“. Въ заключеніе своего труда онъ даже просилъ: „а гдѣ будетъ описался, и вы, д_у_х_о_в_н_ы, Бога ради исправляйте собою духомъ кротости, а не кляните мя грѣшнаго“. А образованный и умный игуменъ, которому попадалъ въ руки подобный сборникъ, представлявшій смѣсь писаній Св. Отцовъ съ апокрифами и отреченными книгами, помѣчалъ иногда рукопись словами: „прочтохъ много добрыхъ вещей и простоты много“ 1).
1) Отчетъ объ Уваровской преміи 1878 г. Статья Тихонравова, стр. 89. —
Впрочемъ, мы, конечно, не можемъ обвинять грамотныхъ предковъ нашихъ за пристрастіе ихъ къ отреченной литературѣ съ такою же строгостью, съ какою ихъ въ этомъ обвиняли современные пастыри Церкви: — не слѣдуетъ забывать, что только въ самомъ концѣ XV вѣка, просвѣщенными усиліями Геннадія и силою тягостныхъ обстоятельствъ историческихъ, вызвано было духовенство къ составленію полнаго свода каноническихъ книгъ Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта, и слѣдовательно, только съ этого времени вполнѣ очевидною стала для всѣхъ та грань, которую Церковь старалась положить между книгами, признаваемыми ею за истинныя и всею обширною областью литературы апокрифической.
Съ теченіемъ времени, однакоже, но мѣрѣ того, какъ число грамотныхъ прибывало, а кругъ общественнаго образованія не расширялся и самое образованіе продолжало быть исключительною собственностью одного духовнаго сословія (да и въ этомъ сословіи, какъ мы видѣли выше, оно стояло на весьма низкомъ уровнѣ), потребность въ книгахъ для чтенія много способствовала размноженію у насъ апокрифическихъ сочиненій и успѣху отреченной литературы. Къ сочиненіямъ апокрифическимъ, перенесеннымъ съ греческаго Востока, при посредствѣ Болгаріи и Сербіи, къ намъ на Русь, вмѣстѣ съ христіанствомъ, стали впослѣдствіи присоединяться апокрифическія сказанія Запада, переводившіяся съ латинскаго языка, проникавшія къ намъ черезъ Литву и Польшу; мало того, каждый вѣкъ, сообразно тому, какіе интересы болѣе его занимали, вносилъ въ апокрифическую литературу свои вклады, развивалъ преимущественно ту или другую тему ея, сосредоточивалъ свое вниманіе на томъ или другомъ отдѣлѣ, заносилъ въ кругъ ея произведеній черты современныхъ вѣрованій и воззрѣній. Такъ, напримѣръ, XIV вѣкъ, въ теченіи котораго даже и просвѣщеннѣйшіе пастыри Церкви нашей были заняты вопросами о кончинѣ міра 1), развилъ преимущественно апокрифическія сказанія о раѣ и адѣ и, мрачно настроивая воображеніе современниковъ, способствовалъ тому, чтобы они съ особеннымъ увлеченіемъ и любопытствомъ читали и переписывали произведенія, подобныя „хожденію Богородицы по мукамъ“. Напротивъ того, XV и XVI вѣкъ, въ теченіи которыхъ, различными путями, при помощи самыхъ разнообразныхъ условій, на Русь болѣе и болѣе стали проникать западныя сказанія, наша апокрифическая литература пополнилась множествомъ занимательныхъ разсказовъ о Соломонѣ и его премудрости, а эти разсказы стали уже сближать апокрифъ съ другимъ литературнымъ родомъ, съ свѣтскою повѣстью, о которой мы говорили въ предъидущей главѣ. Наконецъ, въ тѣ же вѣка, подъ сильнымъ вліяніемъ литературы апокрифической, проникавшей довольно глубоко въ массу народа, — вырабатывался особый родъ произведеній устной народной поэзіи, а именно такъ называемыя д_у_х_о_в_н_ы_я п_ѣ_с_н_и или д_у_х_о_в_н_ы_е с_т_и_х_и.
1) Всѣ съ трепетомъ ожидали пришествія Христова въ 1492 году, которымъ, по счисленію церковному, оканчивалась седьмая тысяча лѣтъ отъ сотворенія міра.
Народная фантазія особенно полно высказалась въ двухъ главныхъ родахъ произведеній своей безъискусственной поэзіи: — въ п_ѣ_с_н_ѣ и с_к_а_з_к_ѣ. Пѣсня, съ теченіемъ времени, видоизмѣнялась, переходя отъ формы первоначальнаго религіознаго гимна въ честь божества и его подвиговъ къ формѣ былины, описывавшей подвиги богатыря-витязя, и наконецъ — къ простой исторической пѣснѣ. Дѣйствительность историческая, очевидно, оказывала свое благотворное дѣйствіе на фантазію народа и постепенно. все болѣе и болѣе придавала правды и естественности тѣмъ героямъ, которыхъ народъ старался возвѣсти въ идеалъ. Съ другой стороны, кромѣ исторической дѣйствительности, сильное вліяніе на фантазію народа должно было оказывать христіанство. По мѣрѣ того, какъ оно усвоивалось массою народа и вытѣсняло древнюю, языческую основу его вѣрованій, видоизмѣняя ее подъ вліяніемъ новыхъ христіанскихъ воззрѣній и образовъ. Эта замѣна языческихъ воззрѣній — христіанскими совершалась у насъ чрезвычайно медленно, и чрезъ пять или шесть вѣковъ по принятіи христіанства на Руси, благодаря тому что, образованность распространялась туго и медленно, христіанскія идеи еще далеко не вполнѣ успѣли овладѣть массою и вытѣснить изъ сознанія ея всѣ стародавнія, языческія вѣрованія. Но борьба двухъ религій, — одной, отживающей и гонимой, и другой, торжествующей и вступающей въ права свои — нашла себѣ отголосокъ въ народной поэзіи. Явился цѣлый рядъ пѣсенъ особаго, н_о_в_а_г_о содержанія, въ которыхъ двоевѣріе высказалось самымъ пестрымъ и страннымъ смѣшеніемъ языческихъ понятій съ понятіями христіанскими. Въ одной изъ такихъ пѣсенъ разсказывается, напримѣръ, о „сотвореніи міра“ (Стихъ о Голубиной книгѣ) совсѣмъ не такъ, какъ повѣствуетъ о томъ Св. Писаніе, и хотя вся пѣсня представляется въ видѣ разговора между пророкомъ Давидомъ и Владиміромъ княземъ, однако же въ каждомъ словѣ ея, сквозь эту внѣшнюю христіанскую обстановку, проглядываетъ древняя, языческая основа преданія о мірозданіи и происхожденіи человѣка, очень сходнаго у многихъ народовъ индо-европейскаго племени. Въ другой, подобной же пѣснѣ, св. Георгій представляется въ образѣ „святорусскаго могучаго богатыря Егорія храбраго“, объѣзжающаго землю Русскую и устанавливающаго въ ней новые, гражданственные порядки среди „лѣсовъ дремучіихъ и горъ толкучіихъ“. Горы передъ нимъ разступаются, лѣса даютъ ему дорогу прямоѣзжую; стада змѣй расползаются и стада волковъ рыскучихъ разбѣгаются въ стороны отъ пути его и, по его слову и велѣнію, принимаются ѣсть только п_о_в_е_л_ѣ_н_н_о_е, у_с_т_а_н_о_в_л_е_н_н_о_е. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ духовное сословіе у насъ начинаетъ болѣе и болѣе разростаться, пополняясь постояннымъ приливомъ новыхъ дѣятелей изъ массы народа, по мѣрѣ того, какъ въ духовное сословіе наше проникаютъ все болѣе и болѣе идеалы, заимствуемые имъ, при посредствѣ южно-славянскихъ литературъ, съ литературной почвы византійскаго Востока и латинскаго Запада — этотъ новый видъ пѣсни, пѣсня духовная, начинаетъ замѣтно развиваться и почти исключительно подчиняться вліянію книжному. Въ кругъ сюжетовъ духовной пѣсни входятъ всѣ элементы, свойственные литературѣ духовной и преимущественно-монастырской: — отвлеченность идеаловъ, отреченіе отъ мірского, воспѣваніе подвиговъ благочестія и прославленіе святыхъ подвижниковъ. Отсюда явилось множество пѣсенъ о святыхъ и о разныхъ благочестивыхъ мужахъ въ связи съ событіями, описываемыми въ Св. Писаніи Ветхаго и Новаго Завѣта: объ Алексіѣ Божьемъ человѣкѣ, объ Олексафіи, объ Іоасафѣ царевичѣ, о крестной смерти Спасителя и о Воскресеніи. Сюда же впослѣдствіи примѣшались, подъ вліяніемъ западно-европейскихъ средневѣковыхъ преданій, а также и подъ непосредственнымъ вліяніемъ произведеній апокрифической (отреченной) литературы, новые сюжеты, въ родѣ „Плача Адамова“, пѣсни „о разставаніи души съ тѣломъ“, „о мытарствахъ“, „о Пятницахъ“, „о женѣ Аллилуевой“. Нѣкоторые изъ числа апокрифовъ даже цѣликомъ перелагались въ пѣсни, какъ напр. „Сонъ Богородицы“.
Вообще, если принимать въ, соображеніе большую часть сюжетовъ этихъ духовныхъ пѣсенъ, нельзя не убѣдиться въ томъ, что основной матерьялъ для нихъ почерпался изъ литературы письменной, а слѣдовательно и авторами этихъ писемъ не могли быть люди неграмотные и пѣвцы народные.
Вѣроятно и у насъ на Руси, точно также какъ на Западѣ, духовныя пѣсни слагались первоначально монахами, по монастырямъ, а отсюда уже, разными, болѣе или менѣе сложными путями, проникали въ массу народа, при помощи особаго, привиллегированнаго класса пѣвцовъ. Распространителями духовныхъ пѣсенъ являлись, вѣроятно, по преимуществу, тѣ странники, тѣ к_а_л_и_к_и-п_е_р_е_х_о_ж_і_е, которые, первоначально, — въ періодъ общеевропейскаго броженія, выразившагося крестовыми походами, — уходили изъ Руси цѣлыми ватагами на поклоненіе гробу Господню, въ Іерусалимъ; въ послѣдствіи, когда, съ паденіемъ Византійской имперіи, значительно увеличились трудности путешествія въ Палестину, а въ то же время и у насъ на Руси появились въ важнѣйшихъ пунктахъ развитія политической жизни свои, мѣстно-чтимыя святыни, тѣ же ватаги странниковъ или к_а_л_и_к_ъ-п_е_р_е_х_о_ж_и_х_ъ стали бродить по Руси, изъ города въ городъ, изъ монастыря въ монастырь, всюду находя себѣ радушный пріемъ. Къ толпамъ странниковъ, посѣщавшихъ святыни русскія изъ дѣйствительнаго религіознаго рвенія, или по обѣту, конечно, примѣшивались и такіе люди, которые, не имѣя своего угла, обращались къ бродяжничеству и весь свой вѣкъ проводили подъ гостепріимнымъ кровомъ монастырей и на церковной паперти. Здѣсь-то, находясь въ частныхъ и тѣсныхъ сношеніяхъ съ грамотнымъ духовенствомъ и монашествомъ, эти вѣчные странники вслушивались въ разсказы о подвигахъ мѣстно-чтимаго святого, въ чтеніе житій, въ пѣніе духовныхъ пѣсенъ, сложенныхъ монахами, обогащали память свою обильнымъ запасомъ религіозно-поэтическаго матерьяла, и на основаніи его, въ свою очередь, слагали пѣсни духовныя, которыя и разносили потомъ во всѣ концы православной Руси. Но даже и въ этихъ подражаніяхъ духовная пѣснь сохранила свой первоначальный характеръ и несомнѣнные слѣды своего происхожденія отъ литературы письменной, книжной, иногда даже и слѣды личнаго творчества авторовъ-грамотѣевъ: и до сихъ поръ пѣсни эти, распѣваемыя слѣпцами и нищими внутри Россіи, подъ названіемъ „д_у_х_о_в_н_ы_х_ъ с_т_и_х_о_в_ъ“, значительно разнятся и по языку, и по духу, и по размѣру своему отъ остальныхъ произведеній народной поэзіи.
Когда же духовная пѣснь, вышепоказаннымъ путемъ, стала переходить въ массу народа, то народъ, конечно, не замедлилъ видоизмѣнить ее по своему и до нѣкоторой степени даже примѣнилъ ее къ своимъ личнымъ потребностямъ. Какъ духовенство наше не всегда умѣла различить книги истинныя отъ ложныхъ, и часто въ число книгъ каноническихъ вносило произведенія отреченной литературы, придавая имъ важное религіозное значеніе: — такъ точно и народъ, усвоивая себѣ духовную пѣсню, очень часто сталъ смѣшивать ее съ пѣснею церковною, и придавать ей значеніе религіозное, хотя въ основѣ ея нерѣдко являлось преданіе, отвергаемое Церковью, или даже суевѣріе. Изъ этого воззрѣнія народнаго на духовную пѣсню вѣроятно и произошелъ обычай пѣть „духовные стихи“ во время постовъ и праздниковъ, и вообще въ тѣ дни, когда почему-либо неприличнымъ казалось пѣніе мірскихъ пѣсенъ.
Переходя въ народѣ изъ устъ въ уста духовная пѣсня, конечно, должна была еще болѣе увеличиться въ своемъ объемѣ, вслѣдствіи того, что къ вышеупомянутымъ нами разнообразнымъ сюжетамъ ея прибавились еще и другіе, новые, стоявшіе въ тѣсной связи съ жизнью народной и съ нравственными воззрѣніями народа на добро и зло, счастье и несчастье, богатство и бѣдность. Такъ, напримѣръ, конечно уже послѣ того, какъ духовная пѣснь перешла въ народъ и была усвоена пѣвцами изъ народа. могли явиться въ числѣ образцовъ ея такія произведенія, какъ „стихъ о богатомъ и Лазарѣ“. Въ этомъ стихѣ, на основаніи извѣстной евангельской притчи, идеализируется бытъ и значеніе нищенствующей братіи, въ средѣ которой духовная пѣснь. вѣроятно, и получила наибольшее свое развитіе. Должно полагать, что подъ вліяніемъ тѣхъ же условій народной жизни появился и другой, замѣчательный по своимъ поэтическимъ достоинствамъ, стихъ ,,о Вознесеніи Христовомъ», въ которомъ разсказывается, какъ Христосъ, собираясь возноситься на небо, прощался съ нищею братіею, которая горько плакала, говоря ему: «батюшка нашъ! царь небесный! на кого ты насъ покидаешь? Кто будетъ насъ поитъ-кормить, отъ темной ночи укрывать?» И отвѣчалъ имъ Христосъ, царь небесный:
«Не плачь, моя меньшая братія,
Дамъ я вамъ гору золотую,
Дамъ я вамъ рѣку медвяную,
Оставлю вамъ сады-винограды,
Оставлю вамъ яблони кудрявы,
Дамъ я вамъ манну небесну.
Умѣйте горою владати,
Промежду собой раздѣляти:
Будете вы сыты, да и пьяны,
Будете обуты и одѣты,
Будете тепломъ вы обогрѣты,
И отъ темной ночи пріукрыты».
Слыша это, Іоаннъ Златоустъ обращается ко Христу и проситъ оставить иное. болѣе прочное наслѣдіе, которое бы никто не могъ отнять у нищей братіи:
«Не давай (говоритъ онъ) нищимъ гору крутую.
Что крутую гору, золотую:
Не съумѣть имъ горою владати,
Не съумѣть имъ золотыя поверстати,
И промежду собой раздѣлати:
Зазнаютъ гору князи и бояре,
Зазнаютъ гору пастыри и власти,
Зазнаютъ гору торговые люди,
Отоймутъ у нихъ гору крутую,
Отоймутъ у нихъ гору золотую,
По себѣ они гору раздѣлятъ,
По князьямъ золотую разверстаютъ.
Да нищію братью не допустятъ;
Да нѣчемъ будетъ нищимъ питатися,
Да нечѣмъ имъ будетъ пріодѣтися,
И отъ темныя ночи пріукрытися.
Дай-же, ты нищимъ-убогимъ
Имя твое святое.
Будутъ нищіе по міру ходити,
Тебя Христа величати,
Въ каждый часъ прославляти;
Будутъ они сыты и довольны,
Обуты будутъ и одѣты,
И отъ темной ночи пріукрыты».

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ГЛАВЪ ОДИННАДЦАТОЙ.
правитьХожденіе Богородицы по мукамъ.
правитьПресвятая Богородица захотѣла молиться Господу Богу нашему на горѣ Елеонской. «Во имя Отца и Сына и Св. Духа, пусть сойдетъ архангелъ Михаилъ, пусть повѣдаетъ мнѣ о мукѣ небесной и земной». И сошелъ архангелъ Михаилъ и 400 ангеловъ съ нимъ: 100 отъ востока, 100 отъ запада, 100 отъ полудня, 100 отъ полуночи… Богородица, желая видѣть, какъ души мучатся, сказала Михаилу архистратигу: …"сколько есть мукъ, гдѣ мучится родъ христіанскій?" И сказалъ ей архистратигъ: «нельзя и разсказать о тѣхъ мукахъ». Сказала ему Благодатная: «покажи мнѣ ихъ на небеси и на земли».
Тогда повелѣлъ архистратигъ явиться ангеламъ отъ полудня, и открылся адъ, и увидѣла она мучащихся въ аду, и много тутъ было женщинъ и мужчинъ, и великъ былъ вопль ихъ. И спросила Благодатная архистратига: «кто эти люди?» — И сказалъ архистратигъ: «это тѣ, что не вѣровали въ Отца и Сына и Св. Духа, но забыли Бога, и вѣровали въ тварь, которую Богъ сотворилъ намъ на работу; и солнце, и землю. и воду, и звѣрей, и гадовъ — все это называли они богами; и изъ камня себѣ создали боговъ — Трояна, Хорса, Велеса, Перуна… потому-то здѣсь такъ и мучатся»…
И увидѣла на другомь мѣстѣ тьму великую, и сказала св. Богородица: «что это за тьма, и кто тѣ (люди), которые въ ней пребываютъ?» — И сказалъ архистратигъ: «многія души пребываютъ въ этомъ мѣстѣ». И сказала св. Богородица: «пусть отымется тьма эта, дабы я могла видѣть и ту муку». И отвѣчали ангелы, стерегущіе муку: «намъ поручено, чтобы они не видѣли свѣта, пока не явится Сынъ Твой благій, болѣе шести солнцевъ свѣтлый», — и опечалилась св. Богородица, и возвела очи къ ангеламъ и воззрѣвъ на невидимый престолъ Отца Своего, сказала: «во имя Отца и Сына, и Св. Духа, пусть разсѣется эта тьма, дабы я могла видѣть и эту муку». И разсѣялась эта тьма и 6 небесъ явилось, и тутъ пребывало множество народу, мужчинъ и женщинъ, и много воплей (было слышно), и исходилъ (оттуда) великій крикъ. И, увидѣвъ ихъ, пресв. Богородица сказала имъ, слезно плача: «что вы совершили, бѣдные, окаянные, недостойные, какъ вы сюда попали?» И не было отъ нихъ ни голоса, ни отвѣта, и сказали ангелы, стерегущіе ихъ: «почему вы не отвѣчаете?» Сказали мучащіеся: «о Благодатная, отъ вѣка не видали мы свѣта, (потому и) не можемъ взглянуть вверхъ». И, взглянувъ на нихъ, св. Богородица горько заплакала, видя ихъ мученія; и сказали они:… «какъ это ты, Пресвятая Богородица, посѣтила насъ бѣдныхъ?» Тогда сказала св. Богородица къ архистратигу Михаилу: «въ чемъ ихъ согрѣшеніе?» — И сказалъ Михаилъ: «это тѣ, которые не вѣровали въ Отца и Сына и Св. Духа, ни въ тебя, св. Богородица, не хотѣли проповѣдать имени твоего, (и того), что родился отъ тебя нашъ (Господь) Іисусъ Христосъ, принялъ (на себя) смерть и освятилъ землю крещеніемъ, — вотъ почему они въ томъ мѣстѣ мучатся.» И опять прослезилась св. Богородица и сказала имъ: «зачѣмъ дали вы (себя) соблазнить, или не знаете, что все созданное почитаетъ имя Мое?»
(Какъ только) сказала это св. Богородица, на нихъ снова опустилась тьма. Сказалъ ей архистратигъ: «куда хочешь, Благодатная, чтобы мы пошли съ тобою: на полдень или на полночь?» И сказала Богородица: «пойдемъ на полдень». Тогда обратились херувимы и серафимы и 400 ангеловъ, повели Богородицу на полдень, гдѣ жгла огненная рѣка, и было тутъ множество мужчинъ и женщинъ, были тутъ погруженные въ нее — одни до пояса, другіе до пазухи, третьи но шею, а иные и съ головою. И увидѣвъ (это), св. Богородица возопила громкимъ голосомъ, и вопросила архистратига: «кто — эти, что погружены въ огонь до пояса?» — «Это тѣ, которые подверглись клятвѣ отцовъ и матерей своихъ: за то здѣсь и мучатся, что были прокляты»… И опять спросила Богородица: «а кто же тѣ, что въ огнѣ стоятъ по шею?» — И сказалъ ей архистратигъ: «это тѣ, что ѣли человѣческое мясо, за то такъ и мучатся». — Сказала св. Богородица: «а тѣ, что и съ головою погружены въ огненную рѣку, тѣ — кто?» — И сказалъ архангелъ: «это тѣ, Госпожа, которые, держа (въ рукахъ) честный крестъ, клянутся лжами… не вѣдая, какая мука ихъ ожидаетъ; потому-то такъ и мучатся».
И увидѣла св. Богородица человѣка, повѣшеннаго за ноги, и черви ѣли его; и вопросила она ангела: «кто этотъ? Какой грѣхъ сотворилъ онъ?» — И сказалъ ей архистратигъ: «это тотъ, который лихву бралъ на свое золото и серебро: за то на вѣки и мучится».
И увидѣла она женщину, повѣшенную за зубы, и различныя змѣи исходили изъ устъ ея, и ее же пожирали. И увидѣвъ то, Пресвятая вопросила ангела: «что это за женщина, и въ чемъ ея грѣхъ?» — И отвѣчалъ архистратигъ: «это та, что ходила по ближнимъ своимъ и сосѣдямъ, подслушивала, что они говорятъ и, слагая непріязненныя слова, возбуждала между ними ссоры: — потому такъ и мучится». И сказала св. Богородица: «хорошо было бы человѣку тому вовсе не рождаться на свѣтъ».
И сказалъ ей Михаилъ: «ты еще, св. Богородица, не видала великихъ мукъ». — И сказала святая архистратигу: «пойдемъ и походимъ, дабы видѣть всѣ муки». И сказалъ Михаилъ: «куда хочешь (идти), Благодатная?» И сказала святая: «на полночь». И обратились херувимы и серафимы, и 400 ангеловъ и повели Благодатную на полночь и представилось имъ тамъ облако огненное, а посреди его кровати, раскаленныя, какъ огонь, и на тѣхъ кроватяхъ лежало множество мужчинъ и женщинъ. И, увидѣвъ ихъ, Святая, вздохнувъ, сказала архистратигу: «кто эти, и въ чемъ согрѣшили?» — И сказалъ архистратигъ: «это тѣ, Госпожа, которые въ свѣтлое Христово воскресенье на заутреню не встаютъ, но лѣнятся, и лежатъ, словно мертвые, — за то такъ и мучатся». — И сказала св. Богородица: «ну, а если кто не можетъ встать, тому вмѣняется ли во грѣхъ?» — И сказалъ Михаилъ: «послушай, Святая. если у кого (въ эту ночь) домъ загорится съ четырехъ угловъ, и охваченъ будетъ огнемъ, и сгоритъ (жившій въ домѣ), не могши встать — такому не вмѣнится во грѣхъ».
И увидѣла на другомъ мѣстѣ столы огненные и на нихъ множество народа, мужчинъ и женщинъ, (лежали) старая, и вопросила архистратига (о нихъ) Святая, (и отвѣчалъ онъ): «это тѣ, что поповъ не чтутъ — за то мучатся».
И увидѣла св. Богородица дерево желѣзное, имѣющее отрасли и вѣтви желѣзныя, и на вершинѣ тѣхъ вѣтвей были крючья желѣзныя, и множество мужчинъ и женщинъ было на тѣхъ крючьяхъ повѣшено за языки. И, увидѣвъ то, прослезилась Святая и вопросила Михаила: «кто эти и въ чемъ ихъ согрѣшеніе?» — И сказалъ архистратигъ: «и это тоже клеветники, корившіе и разлучавшіе брата отъ брата и мужей отъ женъ;… и еще скажу тебѣ о нихъ: — когда кто хотѣлъ креститься и покаяться въ грѣхахъ своихъ, эти отговаривали и не поучали спасенію, — изъ-за того-то и мучатся вѣчно».
И увидѣла Святая въ другомъ мѣстѣ человѣка, висящаго за ногти, и кровь текла (изъ подъ ногтей его) обильно, и языкъ его связывало огненное пламя, не могъ онъ ни вздохнуть, ни произнести: «Господи, помилуй». И при видѣ его, пресв. Богородица сказала: «Господи, помилуй» трижды, и сотворила молитву. И пришелъ къ ней ангелъ, заправлявшій муками, чтобы развязать языкъ тому мужу. И вопросила Святая: ,,кто этотъ бѣдный человѣкъ, который терпитъ такую муку?" — И сказалъ ангелъ: "это икономъ и церковнослужитель, не творившій воли Божьей, но продававшій сосуды (церковные), имущество церковное, и говорившій: «кто для церкви трудится, тотъ отъ церкви и питается — за то и мучится здѣсь». — И сказала Святая: «какъ онъ поступалъ, такъ и воздается ему». И ангелъ вновь связалъ ему языкъ.
И увидѣла Святая человѣка, котораго (обвивалъ) трехглавый змѣй: — одна глава была обращена къ очамъ, а другая къ устамъ сего мужа. И сказалъ архистратигъ: «вотъ бѣдный человѣкъ — нѣтъ ему отдыха отъ этого змѣя»:… «это, Госпожа, тотъ, который прочиталъ св. книги и евангеліе, а самъ не послушалъ (того, что въ нихъ написано); людей-то учитъ, а самъ не творитъ воли Божіей, (поступая) беззаконно»… Прослезилась Пречистая Богородица и сказала: "о, тяжко грѣшникамъ!… «Лучше бы имъ и не родиться на свѣтъ. И сказалъ ей Михаилъ: „изъ за чего ты плачешь, Святая? Не видѣла еще ты великихъ мукъ“. И сказала Пресвятая: „поведи меня, (пусть увижу) всѣ муки“. И сказалъ ей Михаилъ: „куда хочешь, Благодатная — на востокъ-ли, или на западъ, или въ рай, на правую руку, или на лѣвую руку, гдѣ и есть великія муки?“ И сказала Пресвятая: „пойдемъ на лѣвую сторону“. Обратились херувимы, серафимы и 400 ангеловъ, повели Пресвятую отъ востока на лѣвую сторону: и (тамъ) надъ рѣкою висѣла мрачная тьма, а въ той рѣкѣ лежало множество мужей и женъ, и клокотали они словно въ котлѣ, и словно морскія волны обрушались на грѣшниковъ; и когда поднимались волны, и глубоко погружались среди нихъ (въ бездну) грѣшники, то не могли произнести: „праведный судья, помилуй насъ“. (И въ то же время) неусыпающіе черви поѣдали (грѣшниковъ) и слышался (изъ бездны) скрежетъ зубовъ. И увидѣли Пресвятую ангелы, стерегущіе (грѣшниковъ), и воскликнули всѣ въ одинъ голосъ, говоря: „святъ, святъ, святъ еси, Боже Святый!… Радуйся, благодатная Богородица, радуйся просвѣщеніе свѣта вѣчнаго; радуйся, святый архистратигъ Михаилъ, молящійся Владыкѣ за весь міръ; мы же видимъ, какъ здѣсь грѣшные мучатся, и очень о нихъ скорбимъ“… И, увидѣвъ ангеловъ печальными и унылыми изъ-за грѣшниковъ… Богородица прослезилась и сказала: „что это за рѣка и что за волны?“ И сказалъ ей архистратигъ: ,,эта рѣка вся смоляная, а волны ея всѣ огненныя, а тѣ, что въ ней мучатся — жиды, которые мучили Господа нашего Іисуса Христа, Сына Божія; и всѣ язычники, крестившіеся во имя Отца и Сына и Св. Духа, и которые, уже будучи христіанами, все же продолжаютъ вѣровать въ демоновъ и отвергаются отъ Бога и св. крещенія: а также и отравители, ядами умерщвляющіе людей, и оружіемъ людей убивающіе… Потому-то и мучатся за дѣянія свои»… И сказала Святая: ,,по дѣламъ ихъ пусть имъ и будетъ". И вновь набѣжали (на грѣшниковъ) бурная рѣка и огненныя волны, и тьма покрыла ихъ; и сказалъ Михаилъ Богородицѣ: «кого эта тьма покроетъ, о томъ Богъ уже позабываетъ», и сказала Пресвятая: «о, тяжко грѣшникамъ, такъ какъ пламенъ этого огня не угасаетъ!»
И сказалъ ей архистратигъ: «поди, Пресвятая, я покажу тебѣ озеро огненное, дабы ты видѣла, гдѣ мучатся христіане». И увидѣла (то озеро), и услышала плачъ и вопль (мучившихся въ немъ), а ихъ самихъ не было видно, — и сказала: «кто это, и въ чемъ ихъ согрѣшеніе?» И сказалъ ей Михаилъ: ,,это тѣ, что крестились, и называли себя христіанами, а дѣла творили дьявольскія; и миновало время ихъ покаянію, и потому они здѣсь такъ и мучатся".
…И сказала пресвятая Богородица: ,,молю тебя, повели ангельскому воинству, и вознесите меня на высоту небесную, и поставьте меня передъ невидимымъ Отцомъ". И повелѣлъ архистратигъ, и явились херувимы и серафимы, и вознесли Благодатную на высоту небесную, и поставили ее передъ невидимымъ Отцомъ, у престола; и воздѣла она руки свои къ благодатному Сыну своему, и сказала: ,,помилуй, Владыко, грѣшныхъ — я видѣла ихъ, и не моту выносить ихъ мученій". И въ отвѣтъ ей раздался голосъ, сказавшій: «какъ Мнѣ ихъ помиловать? Я вижу раны отъ гвоздей на рукахъ Сына Моего и не помилую тѣхъ». — И сказала Она: «Владыко, молюсь Тебѣ не за невѣрныхъ жидовъ, но за христіанъ молю Тебя о милосердіи». — И раздался голосъ, и сказалъ: «Я вижу, что и братьевъ своихъ они не миловали, какъ же Мнѣ-то ихъ помиловать». — И опять сказала Пресвятая: …"пріидите всѣ ангелы, всѣ сущіе на небесахъ; пріидите всѣ праведные, которыхъ Господь оправдалъ, такъ какъ вамъ дано молиться за грѣшныхъ. Пріиди и ты, Михаилъ, — ты, первый между безплотными и передъ престоломъ Божіимъ, — и повели всѣмъ, пусть мы припадемъ передъ невидимымъ Отцомъ и не тронемся съ мѣста, пока не послушаетъ насъ Богъ и не помилуетъ грѣшныхъ". Тогда палъ Михаилъ ницъ лицомъ своимъ передъ престоломъ, пали и всѣ лики небесные, и всѣ чины безплотныхъ. И увидѣлъ Владыка мольбу святыхъ, умилосердился ради Своего Единороднаго Сына, и сказалъ: «сойди, Сынъ Мой возлюбленный, по молитвѣ святыхъ, и яви лицо свое грѣшникамъ».
И сошелъ Господь отъ невидимаго престола, и увидѣли Его находящіеся во тьмѣ, и возопили всѣ въ одинъ голосъ: «помилуй насъ, Сыне Божій; помилуй насъ, Царь всѣхъ вѣковъ». И сказалъ Владыка: …"По милосердію Отца Моего, пославшаго Меня къ вамъ, и за молитвы Матери Моей, такъ какъ она много за васъ пролила слезъ, и за Михаила архистратита и многихъ мучениковъ Моихъ ходатайство, такъ какъ они много за васъ потрудились — вотъ даю вамъ, мучащимся, отдыхъ на все время, днемъ и ночью, отъ великаго четверга до Св. Троицы (это время будетъ для васъ временемъ покоя), и вы прославите Отца и Сына, и Св. Духа". И отвѣчали всѣ мучащіеся: «слава милосердію Твоему». Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.
ДУХОВНЫЕ СТИХИ.
правитьСтихъ о книгѣ Голубиной.
правитьВосходила туча сильна-грозная,
Выпадала книга голубиная,
И не малая, не великая:
Долины книга сорока сажень,
Поперечины двадцати сажень,
Ко той книгѣ ко божественной
Соходилнся, соѣзжалися
Сорокъ царей со царевичемъ,
Сорокъ князей со княжевичемъ,
Сорокъ поповъ, сорокъ дьяконовъ,
Много народу, людей мелкіихъ,
Христіянъ православнынхъ.
Никто ко книгѣ не приступится,
Никто ко Божьей не пришатнется.
Приходилъ ко книгѣ премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ:
До Божьей до книги онъ доступается:
Передъ нимъ книга разгибается,
Все божественное писаніе ему объявляется.
Еще приходилъ ко книгѣ Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ.
Возговорилъ Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ:
Ой ты гой еси, нашъ премудрый царь,
Премудрый царь, Давыдъ Евсеевичъ!
Прочти, сударь, книгу Божію,
Объяви, сударь, дѣла Божія,
Про наше житіе, про святорусское,
Про наше житіе свѣта вольнаго:
Отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ?
Отъ чего у насъ солнце красное?
Отъ чего у насъ звѣзды частыя?
Отъ чего у насъ ночи темныя?
Отъ чего у насъ зори утренни?
Отъ чего у насъ вѣтры буйные?
Отъ чего у насъ дробенъ дождекъ?
Отъ чего у насъ умъ-разумъ?
Отъ чего наши помыслы?
Отъ чего у насъ кости крѣпкія?
Отъ чего тѣлеса наши?
Отъ чего кровь-руда наша?"
Возговоритъ премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ:
— «Ой ты гой еси, Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ!
Не могу я прочесть книгу Божію.
Ужъ мнѣ честь книгу — не прочесть будетъ:
На рукахъ держать — не сдержать будетъ;
На налой положить — не уложится.
А по старой по своей памяти
Разскажу вамъ, какъ по грамотѣ:
У насъ бѣлый вольный свѣтъ зачался отъ суда Божія;
Солнце красное отъ лица Божьяго,
Самого Христа, Царя небеснаго,
Младъ свѣтелъ мѣсяцъ отъ груди его;
Зѣзды частыя отъ ризъ Божьихъ;
Ночи темныя отъ думъ Господнихъ;
Зори утренни отъ очей Господнихъ;
Вѣтры буйные отъ Свята Духа;
У насъ умъ-разумъ самого Христа,
Самого Христа, Даря Небеснаго;
Наши помыслы отъ облакъ небесныихъ;
У насъ міръ-народъ отъ Адамія;
Кости крѣпкія отъ камени;
Тѣлеса наши отъ сырой земли;
Кровь-руда наша отъ Черна моря».
Возговоритъ Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ:
— Премудрый царь, Давыдъ Евсеевичъ!
Скажи ты намъ, проповѣдай:
Который царь надъ царями царь?
Который городъ городамъ отецъ?
Коя церковь всѣмъ церквамъ мати?
Коя рѣка всѣмъ рѣкамъ мати?
Коя гора всѣмъ горамъ мати?
Кое древо всѣмъ древамъ мати?
Коя трава всѣмъ травамъ мати?
Которое море всѣмъ морямъ мати?
Коя рыба всѣмъ рыбамъ мати?
Коя птица всѣмъ птицамъ мати?
Который звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ?
Возговоритъ премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ:
— «У насъ бѣлый царь надъ царями царь,
И онъ держитъ вѣру крещеную,
Вѣру крещеную богомольную:
Стоитъ за вѣру христіанскую,
За домъ пресвятыя Богородицы.
Всѣ орды ему приклонилися,
Всѣ языцы ему покорилися:
Потому бѣлый царь надъ царями царь.
Ерусалимъ городъ — городамъ отецъ.
Почему тотъ городъ городамъ отецъ?
Во тѣмъ во городѣ во Ерусалимѣ
Тутъ у насъ пупъ 1) землѣ.
Соборъ-церковь всѣмъ церквамъ мати.
Почему та церковь всѣмъ церквамъ мати?
Стоитъ соборъ-церква посреди града Ерусалима;
Во той во церкви во соборной
Стоитъ престолъ божественный:
На томъ престолѣ на божественномъ
Стоитъ гробница бѣло-каменная;
Въ той гробницѣ бѣлокаменной
Почиваютъ ризы самого Христа,
Самого Христа Царя Небеснаго:
Потому соборъ-церква церквамъ мати.
Іорданъ-рѣка всѣмъ рѣкамъ мати.
Почему Іорданъ всѣмъ рѣкамъ мати?
Окрестился въ ней самъ Іисусъ Христосъ,
Со силою со небесною,
Со ангелами со хранителями,
Со Іоанномъ, свѣтомъ, со Крестителемъ:
Потому Іорданъ всѣмъ рѣкамъ мати.
Ѳаворъ-гора всѣмъ горамъ мати.
Почему Ѳаворъ-гора горамъ мати?
Преобразился на ней самъ Ісусъ Христосъ,
Ісусъ Хрыстосъ, царь небесный-свѣтъ,
Показалъ славу ученикамъ своимъ:
Потому Ѳаворъ-гора горамъ мати.
Кипарисъ-древо всѣмъ древамъ мати.
Почему то древо всѣмъ древамъ мати?
На тѣмъ древѣ, на кипарисѣ,
Объявился намъ животворящій крестъ,
На тѣмъ на крестѣ на животворящемъ
Расіштъ былъ самъ Ісусъ Христосъ,
Ісусъ Христосъ, Царь небесный-свѣтъ:
Потому кииарисъ всѣмъ древамъ мати.
Плакунъ трава всѣмъ травамъ мати.
Почему плакунъ всѣмъ травамъ мати?
Когда жидовья Христа распяли,
Святую кровь его пролили,
Мать Пречастая Богородица
По Ісусу Христу сильно плакала,
По своемъ сыну по возлюбленномъ;
Ронила слезы Пречистая
На матушку на сыру землю;
Отъ тѣхъ отъ слезъ отъ пречистыихъ
Зарождалася плакунъ-трава:
Потому плакунъ-трава траваяъ мати.
Океанъ-море всѣмъ морямъ мати.
Почему океанъ всѣмъ морямъ мати?
Посреди моря океанскаго
Восходила церковь соборная,
Соборная, богомольная,
Святаго Климента попа римскаго:
Изъ той церкви изъ соборныя,
Соборныя, богомольныя,
Выходила Царица небесная;
Изъ океанъ-моря омывалася,
На соборъ-церковь она Богу молилася:
Отъ того океанъ всѣмъ морямъ мати.
Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати.
Почему же китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати?
На трехъ рыбахъ земля основана.
Какъ китъ-рыба потронется,
Вся земля всколеблется:
Потому китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати
Основана земля Святымъ Духомъ;
А содержана словомъ Божіимъ.
Стратимъ-птица всѣмъ птицамъ мати.
Почему она всѣмъ птицамъ мати?
Живетъ Стратимъ-птица на океанъ-морѣ,
И дѣтей производитъ на океанъ-морѣ.
По Божьему все повелѣнію,
Страгимъ-птица вострепенется,
Океанъ-море восколыхнется;
Топитъ оно корабли гостиные
Со товарами драгоцѣнными:
Потому Стратимъ-птица всѣмъ птицамъ мати.
У насъ Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ.
Почему Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ?
Ходитъ онъ по подземелью,
Пропущаетъ рѣки, кладязи студеные;
Живетъ онъ во святой горѣ,
Пьетъ и ѣстъ во святой горѣ,
Куды хочетъ идетъ по подземелью,
Какъ солнышко по поднебесью:
Потому же у насъ Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ отецъ».
Возговоритъ Володиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ:
«Ой ты гой еси, премудрый царь,
Премудрый царь, Давыдъ Евсеевичъ!
Мнѣ ночесь, сударь, мало спалось,
Мнѣ во снѣ много видѣлось:
Кабы съ той стороны со восточныя,
А съ другой стороны со полуденной,
Кабы два звѣря собиралися,
Кабы два лютые собѣгалися,
Промежду собой дрались-билися,
Одинъ одного звѣрь одолѣть хочетъ».
Возговоритъ премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ:
— «То не два звѣря собиралися,
Не два лютые собѣгалися:
Это Кривда съ Правдой соходилися,
Промежду собой бились-дралися.
Кривда Правду одолѣть хочетъ;
Правду Кривда переспорила;
Правда пошла на небеса,
Къ самому Христу, царю небесному;
А Кривда пошла у насъ по всей землѣ,
По всей землѣ по свѣтло-русской,
По всему народу христіанскому.
Кто будетъ кривдой жить,
Тотъ отчаянный отъ Господа,
А кто будетъ правдой жить,
Тотъ причаянный ко Господу,
Та душа и наслѣдуетъ
Себѣ царствіе небесное.
Старымъ людямъ на послушанье,
А молодымъ людямъ для памяти.
Славу поемъ Давыду Евсеевичу,
Во вѣки его слава не минуется.
1) Т. е. середина земли. Въ средніе вѣка многіе вѣрили тому, что Іерусалимъ дѣйствительно стоитъ въ центрѣ всего міра.
Стихъ о Егоріи Храбромъ.
правитьВо градѣ было въ Іерусалимѣ,
При царѣ было при Ѳедорѣ,
Жила царица благовѣрная,
Святая Софья Премудрая.
Породила она себѣ три дочери,
Три дочери да три любимыя,
Четвертаго сына Егорія,
Егорія, свѣта, храбраго:
По колѣна ноги въ чистомъ серебрѣ,
По локоть руки въ красномъ золотѣ,
Голова у Егорья вся жемчужная,
По всемъ Егоріѣ часты звѣзды.
(Далѣе слѣдуетъ описаніе того, какъ на Іерусалимъ городъ послалъ Господь напасть: пришелъ „царище Демьянище, безбожный песъ басурманище“, все спалилъ огнемъ, всѣхъ перебилъ или заполонилъ, а Егорья Храбраго увезъ въ свою землю. Тамъ сталъ онъ требовать, чтобы Егорій перешелъ въ его басурманскую вѣру. Егорій отказывается наотрѣзъ. Тогда „царище Демьянище“ подвергаетъ его различнымъ жестокимъ мукамъ; и несмотря на все это, Егорій остается вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Тогда царь приказываетъ замуровать его въ глубокій погребъ, засыпать песками рудожелтыми.)
Засыпалъ онъ и притаптывалъ,
А притаптывалъ, приговаривалъ:
Не бывать Егорью на святой Руси,
Не видать Егорью свѣта бѣлаго,
Не видать Егорью солнца краснаго,
Не видать Егорью отца съ матерью,
Не слыхать Егорью звона колокольнаго,
Не слыхать Егорью пѣнія церковнаго!»
И сидѣлъ Егорій тридцать лѣтъ.
А какъ тридцать лѣтъ исполнилось,
Св. Егорію во снѣ видѣлось:
Да явилося солнце красное,
Еще явилася Мать Пресвятая Богородица,
Святу Егорью, свѣтъ, глаголуетъ:
— «Ой, ты еси, святый Егорій, свѣтъ Храбрый!
Ты за это ли претерпѣніе,
Ты наслѣдуешь себѣ царство небесное!» —
По Божьему повелѣнію,
По Егорія Храбраго моленію,
Отъ свята града Ерусалима
Поднималися вѣтры буйные:
Разносило пески рудожелтые,
Поломало гвозди полуженые,
Разметало доски желѣзныя, —
Выходилъ Егорій на святую Русь:
Завидѣлъ Егорій свѣту бѣлаго,
Услышалъ звону колокольнаго,
Обогрѣло его солнце красное,
И пошелъ Егорій по святой Руси,
По святой Руси, по сырой землѣ,
Ко тому граду Ерусалиму,
Гдѣ его родима матушка
На святой молитвѣ Богу молится.
Приходитъ Егоріи въ Грусалимъ городъ.
Ерусалимъ городъ пустъ-пустёхонекъ:
Вырубили его и выжегли,
Нѣтъ ни стараго, ни малаго.
Стоитъ одна церковь соборная,
Церковь соборная, богомольная,
И во церкви во соборныей,
Во соборныей, богомольныей,
Стоитъ его матушка родимая,
Св. Софія Премудрая,
На молитвахъ стоитъ на Ісусовыхъ:
Она Богу молитъ объ своемъ сыну,
Объ своемъ сыну, объ Егоріи.
(Егорій разсказываетъ матери, гдѣ онъ былъ и что претерпѣлъ, и проситъ у нея благословенія, чтобы отправиться «по всей земли свѣтло-русской, утвердить вѣру христіанскую». Мать совѣтуетъ ему взять коня богатырскаго, съ двѣнадцати цѣпей желѣзныхъ, со сбруею богатырскою, съ вострымъ копьемъ булатнымъ и съ книгою евангельемъ.)
Тутъ Егорій, свѣтъ, поѣзжаючи,
Святую вѣру утверждаючи,
Бусурманскую вѣру побѣждаючи,
Наѣзжалъ на лѣса на дремучіе:
Лѣса съ лѣсами совивалися,
Вѣтья по землѣ разстилалися;
Ни пройтить Егорью, ни проѣхати.
Святый Егорій глаголуетъ:
«Вы! лѣсы, лѣсы дремучіе!
Встаньте и разшатяитеся,
Разшатнитеся, раскачнитеся:
Порублю изъ васъ церкви соборныя,
Соборныя, да богомольныя,
Въ нихъ будетъ служба Господеня.
Разроститесь вы, лѣса,
По всей землѣ свѣтло-русской,
По крутымъ горамъ по высокіимъ».
По Божьему все повелѣяію,
По Егорьеву все моленію,
Разрослись лѣса по всей. землѣ,
По всей землѣ свѣтло-русской,
По крутымъ горамъ по высокіимъ.
Еще Егорій поѣзжаючи,
Святую вѣру утверждаючи,
Бусурманскую вѣру побѣждаючи,
Наѣзжалъ Егорій на рѣки быстрыя,
На быстрыя, на текучія:
Нельзя Егорью проѣхати,
Нельзя Егорью подумати:
"Ой вы еси, рѣки быстрыя,
"Рѣки быстрыя и текучія!
"Протеките вы, рѣки, по всей земли,
"По всей земли свято-русскіей,
"По крутымъ горамъ, по высокіимъ,
«По темнымъ лѣсамъ, по дремучіимъ».
По Божьему повелѣнію,
По Егорьеву моленію,
Протекли рѣки, гдѣ имъ Господь повелѣлъ.
Св. Егорій поѣзжаючи,
Святую вѣру утверждаючи,
Бусурманскую побѣждаючи,
Наѣзжалъ на горы на толкучія:
Гора съ горой столкнулися,
Ни пройтить Егорью, ни проѣхати.
Егорій св. проглаголывалъ:
«Вы, горы, горы толкучія
Станьте вы, горы, по старому:
Поставлю на васъ церковь соборную,
Въ васъ будетъ служба Господняя».
Св. Егорій поѣзжаючи, и т. д.
Наѣзжалъ на стадо на звѣриное,
На сѣрыхъ волковъ на рыскучіихъ;
И пасутъ стадо три пастыря,
Три пастыря, да три дѣвицы,
Егорьевы родныя сестрицы.
На нихъ тѣло, яко еловая кора,
Власъ на нихъ, какъ ковыль трава.
Ни пройтить Егорью, ни проѣхати,
Егорій св. проглаголывалъ:
«Вы, волки, волки рыскучіе!
Разойдитеся, разбредитеся,
По два, по-три, по-единому,
По глухимъ степямъ, по темнымъ лѣеамъ;
А ходите вы повременно,
Пейте, ѣшьте вы повелѣнно,
Отъ свята Егорья благословенія!»
По Божьему повелѣнію, т. д.
Еще же Егорій поѣзжаючи,
Святую вѣру утверждаючи,
Бусурманскую побѣждаючи,
Наѣзжалъ Егорій на стадо на змѣиное:
Ни пройти Егорью, ни проѣхати.
Егорій св. проглагольствовалъ:
«Ой вы гой еси, змѣи огненныя!
Разсыпайтесь, змѣи, по сырой землѣ
Въ мелкіе, дробные череньицы,
Пейте и ѣшьте изъ сырой земли».
Св. Егорій поѣзжаючи, и т. д.
Пріѣзжалъ ко городу Кіеву.
На тѣхъ воротахъ на Херсонскіихъ
Сидитъ Черногаръ птица,
Держитъ въ когтяхъ осетра рыбу:
Св. Егорью не проѣхать будетъ,
Св. Егорій глаголуетъ:
«Охъ, ты, Черногаръ птица!
Возвейся подъ небеса,
Полети на океанъ-море:
Ты и пей и ѣшь въ океанъ-морѣ».
По Божьему повелѣнію, и т. д.
Св. Егорій поѣзжаючи, и т. д.
Наѣзжалъ палаты бѣлы-каменны,
Да гдѣ же пребываетъ царище Демьянище,
Безбожный песъ бусурманище:
Увидѣлъ его царище Демьянище,
Безбожный песъ бусурманище,
Выходилъ онъ изъ палатъ бѣлокаменныхъ.
Кричитъ онъ по звѣриному,
Визжитъ онъ по змѣиному,
Хотѣлъ побѣдить Егорья Храбраго;
Св. Егорій не устрашился,
На добромъ конѣ пріуправился:
Вынимаетъ мечъ-саблю вострую,
Онъ ссѣкъ ему злодѣйскую голову
По его могучія плечи;
Подымалъ палицу богатырскую,
Разрушилъ палаты бѣлокаменныя,
Очистилъ землю бусурманскую,
Утвердилъ вѣру самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному,
Владычицѣ Богородицѣ,
Св. Троицѣ нераздѣльныя,
И беретъ онъ свои три родныхъ сестры,
Приводитъ къ Іорданъ-рѣкѣ:
«Ой вы, мои три родныхъ сестры,
Вы умойтеся, окреститеся,
Ко Христову гробу приложитеся.
Набрались вы духу нечистаго,
Нечистаго, бусурманскаго;
На васъ кожа, какъ еловая кора,
На васъ власы, какъ ковыль-трава.
Вы повѣруйте вѣру самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному,
Владычицѣ Богородицѣ,
Святой Троицѣ нераздѣльныя!»
Умывалися онѣ, окрещалися,
Ковыль-трава съ нихъ свалилася
И еловая кора опустилася.
Приходилъ Егорій
Къ своей матушкѣ родимой:
«Государыня моя матушка,
Премудрая Софья!
Вотъ тебѣ три дочери,
А мнѣ три родныхъ сестры!»
Егорьева много похожденія,
Велико его претерпѣніе:
Претерпѣлъ муки разноличныя,
Все за души наши многогрѣшныя.
Поемъ славу свята Егорія,
Свята Егорія, свѣтъ, Храбраго,
Во вѣки его слава не минуется
И во вѣки вѣковъ, аминь.


ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.
правитьОТЪ ВРЕМЕНЪ ГРОЗНАГО ДО ПОЛОВИНЫ XVII В.
правитьXII.
правитьМракъ невѣжества и ереси. — Западное вліяніе: Максимъ Грекъ и его дѣятельность. — Стоглавъ, какъ результатъ дѣятельности Максима Грека. — «Домострой» попа Сильвестра и «Макарьевскія Четьи-минеи».
правитьВъ то самое время, когда политическія обстоятельства способствовали тому, чтобы власть, сосредоточенная въ рукахъ великихъ князей московскихъ, начиная съ Іоанна III, возрасла до крайнихъ предѣловъ, въ обществѣ русскомъ не развивалась никакая сила, которая бы способна была направлять эту громадную власть на благо, которая бы ограждала ее отъ самообольщенія. Въ обществѣ не было самобытной жизни, ни уваженія къ человѣческой личности, ни общественнаго мнѣнія, которое бы способно было противодѣйствовать злоупотребленію властью или строго относиться къ дѣятельности тѣхъ, кого она выбирала орудіями своими. Русское общество очевидно дожило, въ началѣ XVI вѣка, до крайняго предѣла въ развитіи тѣхъ началъ, которыя руководили его жизнью до этого времени и, окруженное отовсюду самыми неблагопріятными условіями для дальнѣйшаго своего развитія, огражденное отъ вліянія Европы враждебными и недоброжелательными сосѣдями, — оно должно было довольствоваться только тѣмъ, что вырабатывалось въ его собственной средѣ, его собственными скудными средствами. Отсюда, въ нѣкоторой части общества, стало развиваться высокомѣрное понятіе о значеніи и достоинствѣ всего р_у_с_с_к_а_г_о, — какъ несомнѣнно-образцоваго, не требующаго никакихъ измѣненій, и рядомъ съ этимъ убѣжденіемъ — отвращеніе ко всему иноземному, недовѣріе и опасеніе по отношенію ко всякой новизнѣ, хотя бы и очевидно-полезной… Но, въ противоположность этимъ крайнимъ убѣжденіямъ, мы видимъ въ XVI вѣкѣ зараждающееся меньшинство, которое нимало не склонно сочувствовать этимъ взглядамъ и даже смѣло рѣшается выступить на борьбу съ ними. Меньшинство это, какъ мы сейчасъ увидимъ, развивается подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ отдаленныхъ отголосковъ того громаднаго прогрессивнаго движенія, которое руководило всею Европою въ XV и XVI вѣкахъ, и которое извѣстно подъ названіемъ «Эпохи Возрожденія».
«Дѣйствительно, въ XVI в. западное (латинское, фряжское) вліяніе на жизнь, ли-тературу и искусство сказывается уже очень сильно не только въ Новгородѣ, но и въ Москвѣ. Иванъ Берсень жалуется, что „р_у_с_с_к_а_я з_е_м_л_я п_е_р_е_с_т_а_в_л_и_в_а_е_т_ъ с_в_о_и о_б_ы_ч_а_и“, а отцы Стоглаваго собора прямо указываютъ на то, что „многіе обычаи поисшатались, преданія и законы порушены, дѣло Божіихъ заповѣдей ослабло и небрегомо“. Въ обществѣ русскомъ замѣчается сильнѣйшее возбужденіе: симптомы тяжелой переходной эпохи, симптомы борьбы стараго идеала съ новымъ — ярко выражаются въ умственномъ движеніи московской Руси XVI вѣка появленіемъ такихъ произведеній, какъ Четіи-Минеи, Стоглавъ, Домострой, Азбуковникъ и обличительныя сочиненія Максима Грека. Всѣ эти произведенія стремятся одинаково къ одной цѣли: поддержать, „утвердить неколебимо въ роды и роды русскую православную старину и оберечь православіе отъ душегубительныхъ волкъ и козней вражіихъ“ 1).
1) Отчетъ объ Уваровской преміи, статья Тихонравова, стр. 105.
Выше уже видѣли мы изъ знаменитаго посланія Геннадія, какъ сильно нуждалось общество въ школахъ; не говоря уже о другихъ сословіяхъ, для коихъ онъ какъ бы во-все и не признаетъ нужды въ грамотности, Геннадій указываетъ въ своемъ посланіи только на тотъ страшный вредъ, который безграмотность, преобладающая и въ самомъ духовенствѣ, должна была приносить народу въ отношеніи религіозномъ и нравственномъ. Дѣйствительно, неисчислимы оказывались вредныя послѣдствія этой безграмотности, при общемъ невѣжествѣ всѣхъ, и высшихъ, и нисшихъ сословій, при свойственной всякому невѣжеству склонности къ суевѣріямъ и къ ложному истолкованію всего недоступнаго общему пониманію. Ереси, осужденныя на соборѣ 1504 года, продолжали не только существовать, но и распространяться, пользуясь слабостью отпора, которое могло представить имъ полуграмотное духовенство; книги священнаго писанія и церковныя искажались и обезображивались множествомъ ошибокъ со стороны безграмотныхъ писцовъ; между отдѣльными церквами и монастырями происходили ссоры изъ-за разногласій при отправленіи богослуженія. Ко всему этому, разбогатѣвшее монашество начинало до такой степени увлекаться мірскими прелестями жизни, что въ нѣкоторыхъ монастыряхъ забывали даже всякое приличіе… Отсюда, въ самыхъ стѣнахъ монастырей, заводились распри между старымъ поколѣніемъ, отстаивавшимъ старыя преданія и прежнюю строгость жизни, и новымъ, которое болѣе склонно было къ пользованію выгодами своего положенія, нежели къ заботамъ о вѣрѣ и нравственности. Съ другой стороны вопросъ о владѣніи землями и селами разъединялъ все монашество и духовенство наше на два лагеря, которые безпощадно относились другъ къ другу и вели между собою ожесточенную полемику, полную брани и самыхъ безцеремонныхъ разоблаченій какъ съ той, такъ и съ другой стороны… И, между тѣмъ какъ силы тратились въ этой безплодной борьбѣ, для которой средства избирались весьма неразборчиво, масса народа коснѣла въ ужасномъ невѣжествѣ; даже князья и дѣти боярскіе, присутствовавшіе на» соборѣ 1566 г., «ставши передъ дьякомъ», должны были заявить, что «у записи рукъ ихъ нѣтъ, потому что они грамотѣ не умѣютъ». Да къ тому же, среди общества, привыкнувшаго къ невѣжеству, находились и такіе люди, которые отвращали молодыхъ людей отъ ученія, стращая ихъ помѣшательствомъ ума и тѣсною связью между ученіемъ книжнымъ и ересями. Въ самомъ «Домостроѣ», который представляетъ собою, какъ мы увидимъ далѣе, собраніе всѣхъ необходимѣйшихъ для жизни правилъ — такъ сказать полный кругъ понятій русскаго человѣка конца XVI вѣка — не видимъ увѣщанія отцамъ учить дѣтей грамотѣ, которая признается необходимостью только для духовнаго сословія и людей приказныхъ!
И въ эту-то мрачную эпоху недовольства современнымъ состояніемъ общественнымъ борьбы разнородныхъ элементовъ религіозныхъ, и полной невозможности перехода къ лучшему порядку вещей собственными средствами — въ эту эпоху суждено было попасть къ намъ на Русь одному изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ общественныхъ и литературныхъ дѣятелей въ XVI в. Дѣятель этотъ былъ не кто иной, какъ М_а_к_с_и_м_ъ Г_р_е_к_ъ, инокъ аѳонскій, приглашенный въ Россію случайно и по частному дѣлу — для описи богатаго запаса греческихъ рукописей, накопившагося въ библіотекѣ великаго князя Василія Іоанновича — но которому суждено было прожить въ Россіи большую половину своей жизни, сродниться съ землею Русскою, увлечься горячею ревностью къ благому просвѣщенію этой страны, столь богатой нравственными и умственными силами, и, благодаря этой самоотверженной ревности, воспитать поколѣніе новыхъ русскихъ людей.
Максимь Грекъ родился, въ 1480 г. а умеръ въ 1556 г. Въ 1518 году, слѣдовательно на 38-мъ году жизни, въ цвѣтѣ, лѣтъ и въ полномъ развитіи силъ онъ былъ призванъ въ Россію. До этого времени лучшіе годы своей юности онъ провелъ среди условій наиболѣе выгодныхъ для его нравственнаго и умственнаго совершенствованія. Большую часть молодости прожилъ онъ въ сѣверной Италіи, которая съ XV-го столѣтія служила убѣжищемъ всѣмъ ученымъ греческимъ, искавшимъ спасенія отъ турецкаго ига колоніи этихъ ученыхъ, разработывая богатые запасы принесенныхъ ими же древне-классическихъ рукописей, способствовали развитію того блестящаго и многознаменательнаго движенія, которое, исходя изъ Италіи, обошло подъ конецъ всю Европу, и такъ справедливо придало извѣстному періоду названіе «эпохи возрожденія наукъ и искусствъ». Молодому Максиму Греку пришлось получить образованіе въ самомъ центрѣ тогдашняго итальянскаго просвѣщенія, въ Венеціи и Флоренціи. Тутъ изучилъ онъ Древнихъ классиковъ, которыхъ любилъ называть своими п_е_р_в_ы_м_и у_ч_и_т_е_л_я_м_и, и основательно ознакомился, кромѣ древнихъ, и съ двумя новѣйшими языками: итальянскимъ и французскимъ. Во Флоренціи сильное вліяніе долженъ былъ оказать на юнаго Максима знаменитый итальянскій проповѣдникъ того времени, І_е_р_о_н_и_м_ъ С_а_в_о_н_а_р_о_л_а, энергически защищавшій древне-христіанскія начала религіи и нравственности противъ вліяній роскоши, распущенности современныхъ нравовъ и своеволія духовенства. По возвращеніи въ Грецію Максимъ отправился на Аѳонъ, постригся тамъ въ монахи и съ жаромъ предался чтенію и изученію твореній св. Отцовъ Церкви. И послѣ столькихъ-то лѣтъ и трудовъ, посвященныхъ на пріобрѣтеніе блестящаго, по тому времени, научнаго образованія, Максиму Греку пришлось отправиться на далекій сѣверъ, въ Москву, съ того Аѳона, который уже столько разъ и книгами, и живыми силами своими способствовалъ поддержкѣ просвѣщенія въ Россіи.
По прибытіи своемъ въ Москву, Максимъ Грекъ, видѣвшій на вѣку своемъ образованнѣйшіе центры современной Европы, былъ, конечно, пораженъ страшною противоположностью между многостороннею, разнообразною, дѣятельною жизнью европейскихъ государствъ и московскимъ застоемъ; между тамошнею утонченною образованностью и здѣшнимъ глубокимъ невѣжествомъ, въ которомъ коснѣли не только всѣ классы общества, но даже и большинство самого духовенства. Вотъ почему, не смотря на спеціальную дѣятельность переводчика твореній Отцовъ Церкви и исправителя рукописныхъ текстовъ Св. Писанія, которой Максимъ Грекъ посвятилъ себя вначалѣ своего пребыванія въ Москвѣ, онъ вскорѣ увидѣлъ себя вынужденнымъ обратить вниманіе и на прочія нестроенія церковныя и общественныя, которыя совершались передъ глазами его. Вскорѣ его литературная дѣятельность исключительно обратилась къ полемикѣ противъ ложныхъ ученій, распространенныхъ въ средѣ Русской Церкви, и къ обличенію важнѣйшихъ общественныхъ недостатковъ. Не только вышеописанное состояніе общества, но еще и тѣ смуты, которыми сопровождалось правленіе Василія Іоанновича и малолѣтство Грознаго, давали много пищи для поддержки этого обличительнаго направленія въ его литературной дѣятельности. Въ теченіе своего 38-лѣтняго пребыванія въ Россіи онъ написалъ около 140 различныхъ сочиненій, изъ которыхъ большая часть направлена была противъ остатковъ ереси жидовствующихъ, противъ попытокъ латинства, замышлявшаго на православіе, противъ ложнаго пониманія православными нѣкоторыхъ догматовъ религіи; однакоже нѣкоторыя были цѣликомъ, а другія отчасти посвящены разсмотрѣнію и чисто-общественныхъ вопросовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ церковнымъ устройствомъ и его недостатками. Такъ въ словѣ «о премудрости Божіей» помѣщены Максимомъ рѣзкія обличенія лихоимства властей и неправосудія сильныхъ людей; въ другомъ «словѣ о нестроеніяхъ и безчиніяхъ властителей послѣдняго вѣка сего» аллегорически изображена картина смутъ боярскихъ, сребролюбіе и любовь къ роскоши, которая проявлялась въ пирахъ и пышныхъ постройкахъ. Эта многосторонняя и безпристрастная дѣятельность Максима, человѣка просвѣщеннаго и увлекавшагося стремленіемъ къ добру и къ истинному просвѣщенію, неспособнаго хладнокровно относиться къ тому злу, которое совершалось передъ его глазами, скоро навлекла ему много враговъ. Болѣе всего повредила ему полемика его съ волоколамскими иконами, которые пользовались большимъ вниманіемъ великаго князя: онъ раздражилъ ихъ, высказавшись въ одномъ изъ сочиненій своихъ въ пользу тѣхъ, которые считали владѣніе землями и селами неприличнымъ для иноковъ, отрекшихся отъ міра.
Къ этой враждѣ прибавились еще и непріязненныя отношенія къ митрополиту Даніилу, которому волоколамскіе иноки были особенно близки потому, что онъ, до митрополитства, былъ игуменомъ Волоколамскаго монастыря. Врагамъ Максима удалось особенно повредить ему въ глазахъ великаго князя Василія Іоанновича, когда Максимъ высказался противъ развода великаго князя съ первою супругою и противъ брака его съ Еленою Глинскою. Съ начала обвинили его въ сочувствіи къ нѣкоторымъ опальнымъ боярамъ и заключили въ Симоновъ монастырь; когда же онъ успѣлъ оправдаться отъ возведенныхъ на него навѣтовъ, враги его придали особенную важность нѣкоторымъ несовершенствамъ въ исправленіи текста церковныхъ книгъ и, на особо созванномъ для этой цѣли соборѣ 1525 года. осудили Максима, какъ еретика, преднамѣренно испортившаго текстъ Св. Писанія. По приговору собора, Максимъ отправленъ былъ во враждебный ему Волоколамскій монастырь. Переведенный впослѣдствіи, въ царствованіе Грознаго, въ Троице-Сергіевскую лавру, онъ въ ней и скончался.
Не смотря на то, что Максимъ Грекъ въ большей части своихъ сочиненій отдаетъ предпочтеніе богословію предъ всѣми науками, и смотритъ нѣсколько пристрастно, съ чисто-монашеской точки зрѣнія на изученіе классической древности, — во всѣхъ писаніяхъ своихъ онъ все же является человѣкомъ просвѣщеннымъ, неспособнымъ къ той узкости взгляда, какою особенно страдало современное русское общество, недовѣрчиво и презрительно относившееся ко всему иноземному. Максимъ Грекъ, напротивъ того, ни мало не затруднялся приводить въ примѣръ православнымъ неправославныхъ монаховъ и нѣмцевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ считалъ ихъ образъ дѣйствій достойнымъ подражанія. Кромѣ того, Максимъ Грекъ оказывалъ еще сильное вліяніе на приближенныхъ къ нему людей бесѣдами своими, которыми, какъ человѣкъ образованный, много видѣвшій на вѣку своемъ, онъ привлекалъ къ себѣ людей живыхъ и любознательныхъ. Благодаря этимъ бесѣдамъ, около него образовался кружокъ людей, недовольныхъ существующимъ порядкомъ вещей и охотно примкнувшихъ къ человѣку, который могъ сообщить имъ много новаго и любопытнаго объ иномъ, лучшемъ устройствѣ общественной жизни, о болѣе правильныхъ отношеніяхъ между сословіями, какія случалось ему видѣть въ чужихъ краяхъ. Къ этому кружку принадлежали многіе, весьма замѣчательные русскіе люди XVI вѣка, какъ напр. Вассіанъ Косой (въ мірѣ князь Иванъ Патрикѣевъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ бояръ при дворѣ Іоанна III), знаменитый впослѣдствіи князь Андрей Михайловичъ Курбскій, Зиновій Отенскій, прославившійся борьбою противъ ереси Ѳеодосія Косого и Матвѣя Башкина, наконецъ инокъ Сидванъ, сотрудникъ Максимовъ въ переводахъ, состоявшій при немъ писцомъ и прославившійся своими свѣдѣніями въ грамматикѣ. Всѣ они съ гордостью называли себя учениками Максимовыми и «это почетное имя» — какъ справедливо замѣчаетъ г. Соловьевъ — «всего лучше показываетъ намъ значеніе знаменитаго святогорскаго инока».
И дѣйствительно, не смотря на то, что Максимъ Грекъ пострадалъ за горячую дѣятельность обличительную, которой предался съ такою благородною ревностью, не смотря на то, что онъ, вслѣдствіе этого, уже очень рано былъ устраненъ отъ непосредственнаго вліянія на дѣла церковныя и общественныя, не смотря на все это, — посѣянное имъ сѣмя стало мало-по-малу всходить и дало, наконецъ, свой плодъ въ одномъ изъ достопамятнѣйшихъ событій XVI вѣка. Мы, говоря это, имѣемъ въ виду знаменитый С_т_о_г_л_а_в_ы_й С_о_б_о_р_ъ или С_т_о_г_л_а_в_н_и_к_ъ (1551 г.), на которомъ юный царь, во главѣ лучшей и просвѣщеннѣйшей части современнаго русскаго общества, заявилъ объ упадкѣ нравственности въ духовенствѣ, о существованіи на Руси различныхъ церковныхъ и общественныхъ нестроеній и, въ особенности, возсталъ противъ главнаго и общераспространеннаго зла — полнѣйшей безграмотности, происходившей отъ того, что школъ не было. Соборъ, посвятившій много времени на разностороннее обсужденіе предложенныхъ ему вопросовъ, оставилъ намъ въ видѣ объемистой книги, извѣстной подъ названіемъ С_т_о_г_л_а_в_а, всѣ положенія, къ какимъ онъ пришелъ по отношенію къ этимъ вопросамъ. По отношенію къ вопросу о школахъ, соборъ могъ предложить только одну мѣру, которая, во всякомъ случаѣ, не могла имѣть важнаго значенія для распространенія просвѣщенія въ Россіи, такъ какъ она касалась только самыхъ начатковъ образованія — простой, первоначальной грамотности, обученія чтенію и письму. Постановили устроить училища въ домахъ священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ, которые были хорошо обучены грамотѣ. Неизвѣстно, въ какой именно степени это постановленіе собора приведено было въ исполненіе, тѣмъ болѣе, что дальнѣйшій ходъ событій историческихъ въ теченіе всего тревожнаго и суроваго правденія Іоанна Грознаго нимало не могъ способствовать систематическимъ заботамъ о распространеніи на Руси хотя бы и той первоначальной грамотности, которую соборъ призналъ существенно-необходимой. Должно предполагать однакоже, что, хоть мѣстами, эта мѣра нашла себѣ примѣненіе; но даже и въ этомъ случаѣ она не принесла и не могла принести ожидаемой отъ нея пользы, такъ какъ глубокое невѣжество, тяготѣвшее надъ всею Русью, не могло быть устранено даже и всеобщимъ распространеніемъ грамотности. Тутъ необходимыми оказывались болѣе серьезныя мѣры: — оказывалась нужда въ просвѣщеніи, въ наукѣ, которая была бы на столько сильна, чтобы противоборствовать суевѣріямъ и апатіи… Но, видно, еще не время было появиться этимъ новымъ элементамъ въ русскомъ обществѣ, которому еще много предстояло пережить бѣдъ и бурныхъ невзгодъ прежде, нежели сознать необходимость новой жизни и просвѣщенія.
Перебирая всѣ явленія XVI вѣка, важныя по отношенію къ исторіи нашего просвѣщенія и нашей литературы, мы, конечно, вслѣдъ за Стоглавомъ, должны упомянуть такіе памятники XVI в., какъ В_е_л_и_к_і_я Ч_е_т_ь_и-М_и_н_е_и, какъ А_з_б_у_к_о_в_н_и_к_ъ и Д_о_м_о_с_т_р_о_й п_о_п_а С_и_л_ь_в_е_с_т_р_а. По справедливому замѣчанію г. Тихонравова, всѣ три памятника одинаково громко свидѣтельствуютъ ,,о возбужденіи охранительныхъ началъ въ умственномъ движеніи Московской Руси XVI вѣка", о желаніи сохранить русскую старину отъ наплыва новыхъ идей съ Запада.
Выше мы уже упоминали о «Макарьевскихъ Четьи-Минеяхъ», какъ о сборникѣ житій святыхъ. Здѣсь же, говоря объ этомъ обширномъ сборникѣ, какъ объ одномъ изъ важныхъ литературныхъ явленій XVI вѣка, отмѣтимъ ту существенную черту, что Макарій, собирая воедино «всѣ святыя книги, которыя въ Русской землѣ обрѣтаются», очевидно задается мыслію доставить русскимъ грамотнымъ людямъ опредѣленный кругъ д_о_з_в_о_л_е_н_н_а_г_о чтенія, далѣе котораго не слѣдовало увлекаться благочестивому русскому человѣку. И какъ бы въ дополненіе къ труду Макарія въ томъ же вѣкѣ является другой, важный памятникъ: А_з_б_у_к_о_в_н_и_к_ъ, представляющій собою цѣлую энциклопедію современной русской науки. «Вниманіе составителя (или составителей) Азбуковника сосредоточено исключительно, нераздѣльно, на тѣхъ памятникахъ славянскихъ и русскихъ, которые обращались на Руси съ древнѣйшаго времени до половины ХѴІ вѣка; Азбуковникъ вращается въ кругу д_о_м_а_ш_н_я_г_о, р_у_с_с_к_а_г_о чтенія и не переступаетъ ни разу его границъ… Посвященный объясненію непонятныхъ словъ, будутъ-ли то варваризмы или архаизмы, онъ вращается, конечно, болѣе въ области переводной, нежели оригинальной, славянорусской литературы. На немъ лежитъ яркій отпечатокъ второй половины XVI вѣка. Онъ вызванъ тѣмъ же стремленіемъ поддержать п_о_и_с_ш_а_т_а_в_ш_у_ю_с_я русскую старину, которымъ проникнуты „Стоглавъ“ и „Домострой“. Онъ старается устранить все непонятное въ памятникахъ русской литературной старины; онъ вѣритъ лишь въ силу ея авторитета. Онъ, также какъ „Стоглавъ“ и „Домострой“, вооружается противъ отреченныхъ, „свѣтскихъ“ книгъ; онъ рѣшается и предложить „имена отреченныхъ книгъ, да не како, отъ неразумія, кто прочитая ихъ или вѣруяй имъ, прогнѣваетъ Господа Бога: зѣло бо мерзостенъ предъ Господомъ Богомъ всякъ вѣруяй волхвованію и чародѣйству, и з_в_ѣ_з_д_о_ч_е_т_ц_а_м_ъ, и п_л_а_н_и_т_н_и_к_а_м_ъ, и ш_е_с_т_о_к_р_ы_л_у, и л_ю_б_я_й г_и_о_м_и_т_р_і_ю и п_р_о_ч_а_я т_а_к_о_в_а_я“… Преслѣдуя любящихъ „гиомитрію и прочая таковая“, Азбуковникъ остается вѣренъ древне-русской наукѣ; онъ черпаетъ свои свѣдѣнія научныя изъ Дамаскина, Іоанна Экзарха, Козьмы Индиклопова, Георгія Писида, Хронографовъ, Скитскаго Патерика, Св. Писанія, Ериницы Амартола, Палеи, Златой Цѣпи, Діонисія Ареопагита, житій святыхъ, прологовъ, синаксарей. Вотъ его авторитеты. Онъ воспитанъ древнею русскою литературою; онъ ея толкователь и защитникъ» 1).
1) Эту прекрасную характеристику Азбуковника цѣликомъ заимствуемъ изъ той же статьи Тихонравова въ Отчетѣ объ Уваровской преміи 1878, стр. 50—31.
Домострой, приписываемый знаменитому попу Сильвестру, руководителю нравственности и совѣтнику Іоанна Грознаго въ юности, представляетъ собою сборникъ, состоящій изъ вступленія и 63 главъ; въ нихъ авторъ излагаетъ правила, на основаніи которыхъ слѣдуетъ каждому мірянину жить, устраивать свой домъ, свой семейный бытъ, свои отношенія къ окружающимъ. Содержаніе «Домостроя» обнимаетъ собою весь кругъ высшихъ и нисшихъ житейскихъ потребностей, обязанностей, нуждъ и даже удобствъ жизни. Такъ, напримѣръ, первыя главы его посвящены истолкованію того, какъ истинно слѣдуетъ вѣрить въ Бога, въ святыхъ, въ таинства, какъ почитать иконы и священнослужителей, какъ вести себя въ церкви; все, что говорится здѣсь объ этой важной сторонѣ жизни, — увы! — ограничивается только правилами внѣшняго благочестія и обрядности. Вотъ что предписываетъ «Домострой» человѣку б_о_г_о_б_о_я_з_н_и_в_о_м_у: «Въ дому своемъ, всякому христіанину, во всякой храминѣ, святые и честные образы, написанные на иконахъ, по существу ставити на стѣнахъ, устроивъ благолѣпно, со всякимъ украшеніемъ и со свѣтильники, въ нихъ же свѣщи предъ святыми образы возжигаются, на всякомъ славословіи Божіи, и по пѣніи погашаютъ, завѣсою закрываются, всякія ради чистоты, и отъ пыли всегда чистымъ крылышкомъ ометати и мягкою губою вытирати ихъ… и храмъ тотъ чистымъ держати всегда… на славословіи и св. пѣніи и молитвѣ свѣчи зажигати и кадити благовоннымъ ладономъ и ѳиміяномъ; а образы святые поставляются, иже въ началѣ по чину» и т. д. въ томъ же родѣ. Затѣмъ говорится объ отношеніяхъ къ царю и власти, о семейномъ благоустройствѣ, объ обязанностяхъ по отношенію къ слугамъ и подчиненнымъ; наконецъ авторъ доходитъ до подробнѣйшаго изложенія хозяйственныхъ нуждъ и мелочей, обусловливающихъ порядокъ и правильное теченіе домашней жизни для каждаго семьянина. Эта часть «Домостроя» (главы XXVI—LХѴІ) чрезвычайно любопытна по своимъ подробностямъ и по тому особому, практическому смыслу, который, очевидно, во всѣ времена составлялъ одну изъ лучшихъ отличительныхъ чертъ всякаго русскаго человѣка. Одно главное, надъ всѣми остальными преобладающее правило одинаково предписывается всѣмъ, «и богатымъ, и убогимъ, и великимъ и малымъ» — умѣнье жить по средствамъ — по промыслу и по добытку, и по своему имѣнію, а приказному человѣку, смѣтя себя по государскому жалованью и по доходу". Послѣдняя глава «Домостроя» заключаетъ въ себѣ, — подъ общимъ заглавіемъ «Благословеніе отъ Благовѣщенскаго попа, Сильвестра, возлюбленному моему единородному сыну Анфиму», — какъ бы сжатый выводъ изъ всего содержанія книги, и очень напоминаетъ намъ «Поученіе Владиміра Мономаха дѣтямъ» и множество другихъ «Поученій отца къ сыну». которыя помѣщались въ различныхъ нашихъ сборникахъ старинными русскими книжниками, какъ одна изъ наиболѣе любимыхъ ими тэмъ.
Особенно любопытны для насъ тѣ главы «Домостроя», въ которыхъ говорится объ отношеніяхъ семейныхъ, и которыя ярко рисуютъ семейное и общественное положеніе русской женщины ХУІ столѣтія въ высшемъ и наиболѣе образованномъ слоѣ нашего общества. Главы эти тѣмъ болѣе любопытны для насъ, что имъ предшествуетъ въ нашей литературѣ цѣлый рядъ статей. въ которыхъ старинные книжники наши отзываются о женщинѣ самымъ безсмысленнымъ образомъ, изображаютъ ее въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, стараются обрисовать типъ ея при помощи самыхъ невыгодныхъ для нея сравненій… Всѣ подобныя разглагольствованія книжниковъ извѣстны подъ общимъ названіемъ статей «о злыхъ женахъ», и являются одною изъ весьма видныхъ составныхъ частей различныхъ нашихъ старинныхъ сборниковъ. Даніилъ Заточникъ въ своемъ «Моленіи» посвящаетъ довольно видное мѣсто самымъ ожесточеннымъ нападкамъ на женщину и ея злонравіе, ея испорченность, ея исконную преданность грѣху и т. д. Тотъ же мотивъ повторяется потомъ «Пчелами» и другими сборниками статей различнаго содержанія въ XIII, XIV и XV вв. Ученые наши, единогласно признавая, что эти статьи «о з_л_ы_х_ъ ж_е_н_а_х_ъ» никакъ не могли исходить изъ нашей русской дѣйствительности, въ которой женщина никогда не играла особенно непривлекательной роли, указываютъ на Византію, какъ на родину этого мотива «о з_л_ы_х_ъ ж_е_н_а_х_ъ», и утверждаютъ, что онъ понравился древнимъ книжникамъ нашимъ именно въ тотъ періодъ, когда аскетизмъ византійскій пользовался у насъ значеніемъ и долженъ былъ оказывать вліяніе на нашихъ грамотѣевъ. Должно однакоже сознаться, что какъ ни мрачны тѣ образы, въ которые досужая фантазія нашихъ старинныхъ книжниковъ старается облечь общій типъ женщины, описывая «злыхъ женъ», плоды ихъ фантазіи не производятъ на читателя такого тягостнаго впечатлѣнія, какое невольно выносится изъ чтенія нѣкоторыхъ главъ «Домостроя», такъ благонамѣренно дающаго мужу совѣты относительно обращенія съ женою и руководствованья ея въ жизни. Обязанности женщины «Домострой» опредѣляетъ такъ:
«Въ церковь ходитъ она по возможности, по совѣту съ мужемъ. Мужья должны учить женъ своихъ съ любовью и благоразсуднымъ наказаніемъ. Если жена по мужнему поученію не живетъ, то мужу надобно ее наказывать наединѣ, и, наказавъ, пожаловать и примолвить; а другъ на друга имъ не должно сердиться. Слугъ и дѣтей также, смотря по винѣ, наказывать и раны возлагать, да наказавъ, пожаловать; а хозяйкѣ за слугъ печаловать, такъ слугамъ надежно. А только жены, сына или дочери слово или наказаніе нейметъ, то плетью и постегать, а побить не передъ людьми, наединѣ; а по уху, по лицу не бить, или подъ сердце кулакомъ, ни пинкомъ, ни посохомъ не колотить и ничѣмъ желѣзнымъ или деревяннымъ. А если велика вина, то, снявъ рубашку, плеткою вѣжливенько побить, за руки держа. Жены мужей своихъ спрашиваютъ о всякомъ благочиніи и во всемъ имъ покоряются. Вставши и помолившись, хозяйка должна указать служанкамъ дневную работу; кушанье, мясное и рыбное, всякій приспѣхъ скоромный и постный, и всякое рукодѣлье она должна сама умѣть сдѣлать, чтобы могла и служанку научить; если все знаетъ мужнимъ наказаніемъ и грозою, и своимъ добрымъ разумомъ, то все будетъ споро и всего будетъ много. Сама хозяйка отнюдь не была бы безъ дѣла: тогда и служанкамъ, смотря на нее, повадно дѣлать; мужъ-ли придетъ, гостья-ли придетъ, всегда-бъ за рукодѣльемъ сидѣла сама; то ей честь и слава, и мужу похвала; никогда не должны слуги будить хозяйку: хозяйка должна будить слугъ. Со слугами хозяйка не должна говорить пустыхъ рѣчей пересмѣшныхъ; торговки, бездѣльныя жонки и волхвы чтобъ къ ней не приходили, потому что отъ нихъ много зла дѣлается. Всякій бы день жена у мужа спрашивалась и съ нимъ совѣтовалась о всякомъ обиходѣ; знаться должна только съ тѣмъ, съ кѣмъ мужъ велитъ; съ гостями бесѣдовать о рукодѣльи и о домашнемъ устройствѣ, примѣчать, гдѣ увидитъ что хорошее; чего не знаетъ, спрашивать вѣжливо; кто что укажетъ — низко челомъ бить и, пришедши домой, все мужу сказать. Съ добрыми женщинами и пригоже сходиться, ни для ѣды, ни для питья, а для доброй бесѣды и науки; внимать себѣ на пользу, а не пересмѣхать и никого не переговаривать; спросятъ о чемъ про кого другіе — отвѣчать: не знаю, ничего не слыхала, и сама о ненадобномъ не спрашиваю, о княгиняхъ, боярыняхѣ и сосѣдяхъ не пересужаю. Отнюдь беречься отъ пьянаго питья; должна (жена) пить безхмѣльную брагу и квасъ, и дома, и въ людяхъ; тайкомъ отъ мужа ни ѣсть, ни пить; чужаго у себя не держать безъ мужня вѣдома; обо всемъ совѣтоваться съ мужемъ, а не съ холопомъ и не съ рабою. Безлѣпицъ домашнихъ мужу не доносить; въ чемъ сама не можетъ управиться, о томъ должна сказать мужу въ правду».
Какъ ни тяжело должно быть каждому въ настоящее время читать эти выписки изъ «Домостроя» и представлять себѣ незавидное положеніе русской женщины въ XVI вѣкѣ, но все же въ высшей степени странно было бы обвинять автора книги въ жестокости, въ ограниченности взгляда на женщину. Авторъ «Домостроя», очевидно, давалъ мужьямъ совѣты, совершенно умѣстные по тому времени, которое равняло мать въ подчиненности мужу съ дѣтьми и слугами, которое способно было видѣть въ женѣ только образчикъ дѣятельности и домашняго порядка для слугъ и служанокъ, которое, наконецъ, потому именно направляло всѣ, силы женщины на трудъ, потому старалось занять различными мелочами всѣ минуты дня ея, чтобы она не предалась какимъ-нибудь постыднымъ удовольствіямъ или не вздумала бы «напиться»… «Сколько женщинъ по доброй волѣ могли приближаться къ идеалу, начертанному „Домостроемъ“ — говоритъ нашъ историкъ, — „сколькихъ надобно было заставлять приближаться къ нему силою, и сколькихъ нельзя было заставить приблизиться къ нему никакою силою; сколько женщинъ предавалось названнымъ неприличнымъ удовольствіямъ? на этотъ вопросъ мы отвѣчать не ; рѣшимся“.
„Домострой“ важенъ для насъ несомнѣнно еще и потому, что онъ представляетъ собою сводъ правилъ житейской мудрости, предназначаемыхъ исключительно для человѣка свѣтскаго, для мірянина. Уже самая потребность составленія такого свода представляетъ собою явленіе очень важное: видно, что жизнь мірская, со всѣми интересами дѣйствительности и ежедневности, начинаетъ обращать на себя вниманіе грамотниковъ, вниманіе людей, занимающихся литературой.
Житейскіе интересы, отношенія къ окружающему обществу, устройство домашняго быта — вотъ какія насущныя потребности начинаютъ занимать нашихъ авторовъ. И въ этомъ отношеніи „Домострой“ не является въ XVI столѣтіи фактомъ одинокимъ, единичнымъ: — рядомъ съ нимъ въ томъ же столѣтіи, какъ мы увидимъ далѣе, возраждается литература свѣтская, вызванная къ жизни историческою необходимостью…
Что же касается вообще историко-литературнаго значенія такого памятника, какъ ,,Домострой», то онъ напоминаетъ намъ собою другой, важный памятникъ XVI вѣка, — «Макарьевскія Четьи-Минеи». Нельзя отрицать того, что оба эти памятника — и «Макарьевскія Минеи», и «Домострой» — исходили изъ одного настроенія, и въ основѣ ихъ лежала одна общая идея. Мысль о собраніи «в_с_ѣ_х_ъ к_н_и_г_ъ ч_т_о_м_ы_х_ъ», точно также какъ и мысль о томъ, чтобы собрать въ одинъ общій сводъ всѣ практическія правила необходимой житейской мудрости, составить изъ нихъ какъ бы программу поведенія для свѣтскаго человѣка — все это могло явиться только въ такой вѣкъ, который придавалъ своему жизненному опыту большое значеніе и даже способенъ былъ видѣть въ немъ нѣчто уже законченное, въ своемъ родѣ совершенное, могущее служить образцомъ послѣдующимъ вѣкамъ. Какъ тотъ, такъ и другой сводъ, могли явиться только въ такомъ вѣкѣ, который успѣлъ развить въ себѣ до высочайшей степени тѣ начала жизни и науки, какія были ему завѣщаны предшествующими вѣками. Очевидно, что общество — въ которомъ обширные памятники, подобные «Домострою» и «Макарьевскимъ Минеямъ», могли явиться результатомъ умственной и нравственной жизни — заканчивало свои счеты съ прошедшимъ, какъ бы не вѣря въ возможность прогресса въ будущемъ; потому-то и спѣшило оно составить такіе подробные кодексы свѣдѣній и правилъ, которые считало вполнѣ удовлетворяющими современнымъ потребностямъ и даже предлагало въ образецъ грядущимъ поколѣніямъ. По нашему мнѣнію, эти два драгоцѣнныхъ историческихъ памятника замѣчательно-полно характеризуютъ нашъ XVI вѣкъ, какъ предѣлъ древнѣйшаго періода русской литературы. Проявляется стремленіе собирать въ общіе своды все, что сдѣлано было въ предшествующіе вѣка, — наступаетъ періодъ сознательнаго пониманія началъ, руководившихъ жизнью общества до этого времени. Вмѣстѣ съ наступленіемъ этого сознательнаго періода замѣчаемъ мы еще и другое любопытное явленіе: — общество останавливается на тѣхъ началахъ жизни, которыя были выработаны прошедшимъ, возводитъ ихъ въ идеалъ и указываетъ на нихъ, какъ на образецъ, достойный подражанія въ настоящемъ и обязательный для будущаго и тѣмъ самымъ высказываетъ свою несостоятельность и неизбѣжную необходимость наступленія иного, лучшаго порядка вещей въ ближайшемъ будущемъ.
XIII.
правитьНачало книгопечатанія въ Россіи. — Краткій обзоръ исторіи книгопечатанія въ Славянскихъ земляхъ. Наши первопечатники. — Важнѣйшіе памятники нашей печати.
правитьИсторикъ нашъ, С. М. Соловьевъ, совершенно справедливо называетъ вѣкъ Грознаго «вѣкомъ движенія, разнаго рода попытокъ и протестовъ». Самъ Грозный бралъ на себя иниціативу нѣкоторыхъ подобныхъ протестовъ, обращая напр. вниманіе духовенства на церковныя и общественныя нестроенія въ той рѣчи, которою онъ открылъ Стоглавый соборъ 1551 г. Въ числѣ «нестроеній» онъ указалъ духовенству на то, что священныя книги подвергаются въ рукахъ невѣжественныхъ писцовъ сильнымъ искаженіямъ, и требовалъ, чтобы изысканы были мѣры къ пресѣченію этого зла. Соборъ занялся обсужденіемъ этого вопроса и пришелъ къ тому, что слѣдуетъ установить извѣстнаго рода надзоръ за переписчиками, поручить этотъ надзоръ протопопамъ и старѣйшимъ священникамъ, а книги неисправно написанныя отбирать д-ромъ и у продавца, и у покупателя. Но эти полумѣры, которыми старались искоренить и отчасти — покарать зло, оказались вскорѣ, какъ и слѣдовало ожидать, совершенно неисполнимыми на практикѣ. Дѣло въ томъ, что съ конца XV вѣка, когда потребность въ книгахъ стала возрастать, къ письменному труду обратилось множество рукъ. Кромѣ людей грамотныхъ, которые, по прежнему, продолжали заниматься этимъ дѣломъ изъ усердія и любви къ дѣлу, мы встрѣчаемъ въ это время много особыхъ частныхъ «доброписцевъ», при монастыряхъ, при епископахъ; сверхъ того, въ городахъ является особый классъ писцовъ-промышленниковъ, которые переписывали и богослужебныя, и всякія «книги-четьи», по найму и заказу, на продажу. Рукописныя книги продавались въ большомъ количествѣ на торжищахъ 1). Кому же подъ силу было бы услѣдить за всею этою массою письменнаго матеріала, пересмотрѣть всѣ эти книги — каждую порознь — и во всѣхъ исправить ту нескончаемую массу грубыхъ ошибокъ и описокъ, нечаянныхъ пропусковъ и преднамѣренныхъ искаженій, которыми всѣ эти скорописныя книги были такъ обильно переполнены.
1) Сборникъ памятниковъ, касающихся до книгопечатанія въ Россіи. В. Е. Румянцевъ. Вып. I, стр. 3—4.
И вотъ, когда въ 1553 г. особенно много потребовалось богослужебныхъ книгъ для церквей, воздвигаемыхъ усердіемъ царя въ завоеванномъ имъ Казанскомъ царствѣ и другихъ мѣстахъ Россіи, царь приказалъ скупать рукописныя книги на торжищахъ.
Изъ весьма значительнаго числа купленныхъ книгъ лишь очень немногія оказались годными къ церковному употребленію. Прочія же, по выраженію Максима Грека, были «всѣ растлѣны отъ преписующихъ, ненаученыхъ сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ». Предполагаютъ, что именно этотъ случай окончательно навелъ царя Ивана Васильевича на мысль о заведеніи книгопечатанія въ Россіи, хотя есть основаніе думать, что и гораздо ранѣе этого времени на мысль объ учрежденіи въ Россіи типографіи наводилъ царя Максимъ Грекъ. Святогорскій инокъ, прибывшій въ Москву изъ самаго центра современной европейской цивилизаціи, ясно понимавшій и высоко цѣнившій всѣ преимущества, какія книгопечатаніе доставляло современному европейскому обществу, естественно долженъ былъ горячо ратовать за введеніе въ Россіи этого новаго искусства. Книгопечатаніе Максиму Греку было очевидно хорошо извѣстно, потому что, во время своего пребыванія въ Венеціи, онъ былъ даже лично знакомъ съ однимъ изъ знаменитѣйшихъ типографовъ въ Европѣ — Альдомъ Мануціемъ. «Въ Венеціи» — пишетъ Максимъ въ одномъ изъ своихъ писемъ — «былъ нѣкій философъ добрѣ хытръ; имя ему Алдусъ, а прозвище Мануціусъ, родомъ Фрязинъ… Я его зналъ и видѣлъ въ Венеціи и къ нему часто хаживалъ книжнымъ дѣломъ». Сверхъ того, Максимъ Грекъ имѣлъ даже возможность и ссылаться, какъ на подтвержденіе своего мнѣнія о книгопечатаніи — на образцы новаго искусства, на печатныя книги, вывезенныя имъ изъ Венеціи.
И вотъ, по словамъ современнаго сказанія о введеніи книгопечатанія въ Россіи, въ томъ же 1553 году — «царствующему надъ всею Россіею царю и великому князю Іоанну Васильевичу всея Руси вложилъ Богъ въ умъ благую мысль, какъ бы ему изряднѣе въ Русской землѣ учинить и вѣчную память по себѣ оставить: — произвести бы ему отъ письменныхъ книгъ печатныя, ради крѣпкаго исправленія и утвержденія, и скораго дѣланія и ради легкой цѣны, и ради своей похвалы, и такъ бы учинить въ царствующемъ градѣ Москвѣ и во всей Россіи, какъ (оно уже учинено) въ Грекахъ и Нѣмецкихъ земляхъ, въ Виницѣ (въ Венеціи) и во Фригіи (Фрягіи — Италіи), и въ Бѣлой Руси, и въ Литовской землѣ и въ прочихъ тамошнихъ странахъ, дабы (можно) было всякому православному христіанину праведно и несмутно читать святыя книги и говорить по нимъ, и дабы (можно было) повелѣть и_с_п_у_щ_а_т_ь (эти печатныя книги) во всю Русскую свою землю».
По свидѣтельству того же сказанія, главнѣйшимъ образомъ утвердилъ царя въ намѣреніи завести на Руси книгопечатаніе извѣстный своею обширною начитанностью и трудолюбіемъ митрополитъ Макарій; услыхавъ отъ царя о такомъ благомъ начинаніи, митрополитъ прямо сказалъ, что ,,эта мысль внушена царю самимъ Богомъ, что это — д_а_р_ъ с_в_ы_ш_е с_х_о_д_я_щ_і_й".
Ободряемый такимъ образомъ въ своемъ благомъ намѣреніи, царь Иванъ Васильевичъ приступилъ, со свойственною ему живостью и энергіею, къ выполненію своего замысла, приказалъ строить особый домъ для помѣщенія типографіи, подыскивать мастеровъ и заводить все необходимое для начала книгопечатанія въ Россіи.
Сообразно тому значенію, которое царь придавалъ задуманному имъ дѣлу, и тому интересу, съ какимъ онъ относился къ его будущему исходу, — и мѣсто для будущей типографіи было избрано въ самомъ центрѣ города, на Никольской улицѣ, въ средоточіи торговли и среди дворовъ тогдашней московской знати. На постройку дома для типографіи, впослѣдствіи получившаго названіе П_е_ч_а_т_н_а_г_о Д_в_о_р_а, и на устроеніе въ немъ печатнаго дѣла царь не щадилъ издержекъ; но все же постройка эта и приведеніе дома въ тотъ видъ, въ которомъ бы въ немъ уже можно было начать печатаніе, продолжались ровно десять лѣтъ, и только 19 апрѣля 1563 г. на Печатномъ Дворѣ могло быть начато, а 1-го марта 1564 года — окончено печатаніе п_е_р_в_о_й в_ъ В_е_л_и_к_о_й Р_у_с_и п_е_ч_а_т_н_о_й к_н_и_г_и.
Не мѣшаетъ замѣтить, что наши первопечатныя книги, какъ и слѣдовало ожидать, явились, съ внѣшней своей стороны, вѣрнымъ подражаніемъ книгъ рукописныхъ. Какъ современныя книги рукописныя украшались красивыми, ярко раскрашенными заставками и вычурными начальными буквами, такъ и въ книгахъ, первопечатныхъ видимъ травчатыя и фигурныя заставки и буквы въ началѣ главъ, а въ началѣ и срединѣ текста — цѣлыя строки, напечатанныя киноварью. Какъ древніе писцы считали долгомъ своимъ поставить въ извѣстность «всѣмъ почитающимъ» тѣ условія частной жизни или историческія, съ которыми связано было появленіе въ свѣтъ той или другой рукописи, — такъ точно и первые печатники наши подробно сообщали въ послѣсловіяхъ къ своимъ книгамъ: когда, какъ и по чьему благословенію, и въ чье царствованіе, и при чьей помощи произведено было печатаніе той или другой книги. Мало того: какъ древніе книгописцы, закончивъ свой тяжкій, долгій и важный трудъ, считали своею непремѣнною обязанностью, въ концѣ книги, испросить у своихъ читателей прощенія въ невольныхъ промахахъ и ошибкахъ своего труда, — такъ точно и первопечатники наши заканчиваютъ послѣсловія книгъ своихъ молитвами, смиреннымъ обращеніемъ къ своимъ читателямъ, которыхъ просятъ «не осуждать и порицать, а исправлять». Любопытнымъ образчикомъ всѣхъ подобныхъ послѣсловій можетъ послужить заключеніе къ послѣсловію львовскаго Апостола, написанное Иваномъ Ѳедоровымъ. Въ концѣ его, обращаясь «къ Богу Вѣчному и безначальному» съ молитвою о здравіи и благоденствіи тѣхъ, которые способствовали изданію въ свѣтъ книги, первопечатникъ нашъ добавляетъ:… «намъ же непотребнымъ, начинаніе дерзнутымъ, благословеніе и грѣхомъ простыню да просятъ (т. е. читатели), да и сами того же благословенія и простыни грѣхомъ сподобитеся, и аще что погрѣшено будетъ, Бога ради исправляйте, благословите, а не кленѣте, понеже не писа духъ святый, ни ангелъ, но рука грѣшна и бренна, якоже и прочіи не наказанніи. Выдруковалъ есми сію душеполезную Апостольскую книгу, въ преименитомъ мѣстѣ Львовѣ, въ славу всемогущія и живоначальныя Троица Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
Слѣдовательно, книгопечатаніе на Руси введено было слишкомъ семьдесятъ лѣтъ спустя послѣ того, какъ первая славянская книга была отпечатана въ Краковѣ, по крайней мѣрѣ лѣтъ на 30 позже того, какъ книгопечатаніе на славянскихъ языкахъ и славянскими алфавитами производилось уже въ Венеціи, и даже позже введенія книгопечатанія въ Литвѣ и Бѣлоруссіи. Причину такого поздняго введенія у насъ книгопечатанія слѣдуетъ видѣть не столько въ застоѣ нашего общества, съ боязнью и недовѣріемъ относившагося къ каждой новизнѣ, сколько въ особыхъ условіяхъ, въ которыя оно было поставлено по отношенію къ грамотности и письменности. Книгописная производительность была настолько развита въ древней Руси, что недостатокъ въ книгахъ (при незначительномъ на нихъ спросѣ) наше общество ощущать и не могло. А между тѣмъ, именно недостатокъ въ книгахъ, скудость книгописнаго запаса, истощеннаго случайными и горестными историческими условіями — были главною причиною того, что книгопечатаніе появилось въ болѣе отдаленныхъ отъ центра Европы славянскихъ земляхъ прежде, нежели въ Россіи. Такъ, извѣстный ревнитель просвѣщенія на славянскомъ юго-западѣ, воевода Божидаръ Вукотичъ, издавшій многія церковно-славянскія богослужебныя книги въ Венеціи, въ послѣсловіи къ одной изъ нихъ (Соборнику 1538 г.) высказываетъ прямо, что къ трудамъ по книгопечатанію побудило его желаніе пополнить, насколько воля Божья то дозволитъ — «н_е_д_о_с_т_а_т_ь_ч_ь_с_т_в_о с_в_я_т_и_х_ъ к_н_ы_г_ъ, е_ж_е е_с_т_ь у_м_а_л_е_н_н_о_е и_н_о_в_ѣ_р_н_ы_м_и е_з_ы_ц_и».
Первое мѣсто по древности въ числѣ первопечатныхъ книгъ церковно-славянскихъ занимаютъ изданія Краковскія (Часословъ, Псалтирь и Октоихъ, изъ котораго мы приводимъ на стр. 163 послѣсловіе, украшенное гербомъ города Кракова). Но книгопечатаніе церковно-славянское, заведенное въ Краковѣ въ 1491 г. какимъ-то Швайпольтомъ Фѣолемъ, вскорѣ прекратилось, и продолжалось потомъ уже въ Венеціи, потомъ въ Прагѣ, Вильнѣ, и наконецъ — въ Москвѣ.
Сохранилось извѣстіе о томъ, что въ 1548 году царь Іоаннъ Васильевичъ, между прочими мастерами, выписывалъ изъ Германіи и типографщиковь; но ихъ не пропустили въ Россію наши сосѣди. Въ 1552 году, датскій король Христіанъ III прислалъ въ Москву нѣкоего Ганса Миссенгейма, свѣдущаго въ типографскомъ искусствѣ. Миссенгейму дано было порученіе предложить царю принять протестантство. Нѣкоторые утверждаютъ, будто ему же поручено было царемъ и самое устройство типографіи. Но по другимъ, болѣе достовѣрнымъ извѣстіямъ, книгопечатаніе въ Россіи началось вполнѣ самостоятельно, при участіи чисто-русскихъ дѣятелей, которые не только оказались вполнѣ подготовленными къ печатному дѣлу, но даже и подготовку свою получили, повидимому, не отъ нѣмцевъ, а изъ Италіи. Главнымъ д_ѣ_я_т_е_л_е_м_ъ по учрежденію у насъ книгопечатанія явился Иванъ Ѳедоровъ, дьяконъ кремлевской церкви Никоды Гастунскаго, человѣкъ весьма замѣчательный, по той энергіи и любви къ дѣлу, которыя онъ выказалъ, вполнѣ предавшись новому искусству книгопечатанія, изучивъ его до замѣчательнаго совершенства и посвятивъ ему всю свою жизнь. Рядомъ съ нимъ, въ качествѣ его сотрудника и пособника, является и другой, — впрочемъ, очевидно, второстепенный — дѣятель Петръ Тимоѳеевъ Мстиславецъ.
Хотя и сохранилось, подъ 1556 годомъ, извѣстіе еще о какомъ-то мастерѣ печатныхъ дѣлъ, Марушѣ Нефедьевѣ, однако-же этотъ мастеръ печатныхъ дѣлъ оказывается не болѣе, какъ однимъ изъ тѣхъ «клевретовъ» (по современному названію), которые помогали «Ивану Ѳедорову съ товарищемъ» въ устроеніи печатнаго дѣла въ Москвѣ. Первостепенное значеніе несомнѣнно остается за Иваномъ Ѳедоровымъ. Чрезвычайно любопытно для насъ сохранившееся объ этихъ мастерахъ свѣдѣніе (въ сказаніи «о воображеніи книгъ печатнаго дѣла», напис. въ полов. XVII вѣка), будто они задолго до этого времени пробовали печатать книги «малыми и неискусными начертаніями», а потомъ въ искусствѣ типографскомъ усовершенствовались подъ руководствомъ фряговъ (итальянцевъ).
Иванъ Ѳедоровъ (род. около 1520 г.) и дѣйствительно, какъ оказывается, не только умѣлъ самъ печатать и набирать книги, но и отливать литеры, и даже вырѣзать тѣ матрицы (формы), которыя должны служить для ихъ отливки. До сихъ поръ неизвѣстно, когда и гдѣ научился онъ и его товарищъ, Петръ Тимоѳеевъ, своему мудреному искусству? Быть можетъ, первыя свѣдѣнія, какъ и первыя побужденія къ занятію книгопечатаньемъ, внушены были Ивану Ѳедорову заѣзжими къ намъ итальянскими мастерами, которыхъ уже со временъ Ивана III очень много перебывало въ Москвѣ; быть можетъ, и самъ Иванъ Ѳедоровъ успѣлъ до 1553 года побывать за-границей. Какъ бы то ни было, но по новѣйшему и весьма основательному изслѣдованію В. Е. Румянцева, первыя понятія объ искусствѣ книгопечатанія занесены были къ намъ изъ Италіи, такъ какъ всѣ термины, употреблявшіеся при нашемъ печатномъ дѣлѣ старинными русскими мастерами, оказываются заимствованными съ итальянскаго. То же изслѣдованіе доказало, что и весь шрифтъ, которымъ напечатана была въ Москвѣ первая русская книга, не былъ вывезенъ ни изъ-за границы, ни изъ славянскихъ земель, ни изъ Польши, а былъ изготовленъ (и притомъ весьма хорошо) въ Москвѣ, по особому образцу, отличному отъ другихъ современныхъ славянскихъ шрифтовъ и вполнѣ сохраняющему «строгую чистоту и правильность московскаго пошиба во всѣхъ буквахъ и знакахъ».

Первымъ памятникомъ нашего книгопечатанія явилась книга «Дѣяній Апостольскихъ», начатая печатаньемъ 19-го апрѣля 1563 года и оконченная 1-го марта 1564 года. По общему отзыву знатоковъ печатнаго дѣла, эта первопечатная русская книга представляетъ собою чрезвычайно замѣчательное по красотѣ и изяществу явленіе въ области книгопечатанія, особливо если принять во вниманіе «младенческое состояніе тогдашней типографской техники».
Въ слѣдующемъ, 1565 году, тѣ же мастера напечатали еще «Часовникъ» — и вдругъ вынуждены были бѣжать изъ Москвы, обвиненные въ ереси, въ порчѣ книгъ; говорятъ даже, будто и самый типографскій домъ былъ сожженъ недоброжелательными людьми. Самъ Иванъ Ѳедоровъ, въ послѣсловіи къ львовскому «Апостолу», напечатанному имъ въ 1573 г., говоритъ довольно глухо о причинахъ бѣгства печатниковъ изъ Москвы. Главною причиною оказывается «презѣльное озлобленіе отъ многихъ начальникъ и учитель, которые на насъ зависти ради многія ереси умышляли, хотячи благое во зло превратити, и Божіе дѣло въ конецъ погубити», — «сія бо (т. е. зависть) насъ отъ земли и отечества и отъ рода нашего изгна и въ ины страны незнаемы пресели». Такъ разсказываетъ нашъ первопечатникъ. Переселившись въ «иныя страны незнаемыя», Иванъ Ѳедоровъ и Тимофеевъ нашли себѣ убѣжище въ Литвѣ, и тамъ, подъ покровительствомъ гетмана Г. А. Хоткевича, въ его имѣніи, Заблудовьѣ, напечатали «Евангеліе учительное» (1569). Потомъ оба собрата по ремеслу разстались и стали трудиться порознь; Петръ Тимофеевъ, по приглашенію друзей Курбскаго, Зарецкихъ, Мамоничей и другихъ ревнителей православія, переселился въ Вильну, гдѣ и основалъ типографію, которая просуществовала около 60 лѣтъ и прославилась многими изданіями; Иванъ Ѳедоровъ оставался еще нѣкоторое время въ Заблудовьѣ, напечаталъ тамъ Псалтирь съ Часословцемъ (1570) — и вдругъ остался безъ дѣла. Вотъ что разсказываетъ онъ самъ о своей жизни за это время (въ томъ же, вышеупомянутомъ послѣсловіи къ львовскому «Апостолу»), и разсказъ его живо рисуетъ намъ чистый и прекрасный нравственный образъ простаго русскаго человѣка, дѣятеля не по корысти, а по увлеченію.

«…Гетманъ принялъ насъ любезно, немалое время успокоивалъ насъ всячески, удовлетворяя всѣмъ нашимъ потребностямъ. И того еще недовольно ему было, что онъ такъ насъ устроилъ: — онъ подарилъ еще мнѣ на успокоеніе мое немалую деревню. Мы же стали работать по волѣ Господа нашего Іисуса Христа, и слова его разсѣвать по вселенной»… «Когда же онъ (гетманъ) сталъ дряхлѣть и болѣть, то повелѣлъ намъ (печатникамъ) прекратить нашу работу, и пренебречь художествомъ рукъ нашихъ, и приняться въ деревнѣ за обработку земли. Однако-же невозможно показалось мнѣ коротать жизнь свою за плугомъ и сѣяніемъ сѣмянъ, такъ какъ мѣсто плуга для меня заступало книгопечатаніе, и мнѣ надлежало, вмѣсто житныхъ сѣмянъ, разсѣвать по вселенной сѣмена духовныя, и всѣмъ раздавать эту духовную пищу». И вотъ Иванъ Ѳедоровъ бросаетъ свое спокойное убѣжище, отказывается отъ обезпеченнаго своего положенія, и черезъ всякія «скорби и бѣды», во время сильнѣйшаго мороваго повѣтрія, пробирается во Львовъ, вмѣстѣ со всѣмъ своимъ типографскимъ запасомъ. Но во Львовѣ Ивану Ѳедорову не повезло: лишь весьма немногіе изъ числа духовенства и небогатыхъ гражданъ оказали ему небольшое вспомоществованіе. Несмотря на скудость этихъ средствъ, Иванъ Ѳедоровъ все же отпечаталъ здѣсь въ 1574 году «Апостолъ», съ тѣмъ знаменитымъ послѣсловіемъ, изъ котораго мы выше уже привели выдержки. Послѣ этого Иванъ Ѳедоровъ, вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Иваномъ (переплетнымъ мастеромъ), оставался во Львовѣ еще нѣсколько лѣтъ и подъ конецъ (1579 г.) доведенъ былъ до такой крайности, что вынужденъ былъ заложить всѣ принадлежности своей типографіи и отпечатанныя имъ книги за 411 злотыхъ, еврею Израилю Якубовичу. Въ 1580 году мы опять видимъ его въ г. Острогѣ (Волынской губ.), во главѣ большой типографіи, устроенной тамъ знаменитымъ ревнителемъ просвѣщенія, княземъ Константиномъ Константиновичемъ Острожскимъ. Въ Острогѣ Иванъ Ѳедоровъ вполнѣ предался своему любимому дѣлу. Въ 1580 году напечаталъ онъ здѣсь, по желанію князя, Новый Завѣтъ съ Псалтирью въ одной книгѣ, «яко первый овощь» новаго печатнаго дома. Въ томъ же 1580 г. отпечатано было Иваномъ Ѳедоровымъ первое, а въ 1581 году — второе изданіе знаменитой Острожской Библіи, первой полной печатной Библіи славянской. Всѣ шрифты и украшенія для этой книги были изготовлены и отлиты самимъ Иваномъ Ѳедоровымъ, и были настолько хороши, что Острожская Библія можетъ быть, по красотѣ изданія, поставлена наравнѣ съ лучшими произведеніями современнаго типографскаго искусства въ Европѣ. Напрасно было бы однакоже думать, что Острожская Библія явилась только замѣчательнымъ произведеніемъ типографскаго искусства: внутреннія достоинства этого важнаго изданія были также весьма значительны. Создавая текстъ своей Библіи, острожскіе издатели въ основу его положили текстъ Геннадіевскаго свода библейскихъ книгъ, но отнеслись къ нему критически. Это критическое отношеніе къ Геннадіевскому тексту выказалось не только въ томъ, что они замѣнили нѣкоторые переводы библейскихъ книгъ новыми переводами (напр. книгу Э_с_ѳ_и_р_ь и П_ѣ_с_н_ь П_ѣ_с_н_е_й), не только въ томъ, что книги, переведенныя для Геннадіевскаго текста съ латинскаго, исправили по греческому тексту (напр. I и II книги Маккавѣевъ, Товитъ, Эздры и т. д.), но и вообще въ томъ, что они старались по возможности сблизить текстъ своей печатной Библіи не съ Вульгатой, а съ греческою Библіей. Стремясь пополнить и завершить трудъ Геннадія, Острожскіе издатели должны были перевести заново нѣкоторыя книги библейскія (напр. III Маккавѣевъ), а одну напечатать съ перевода, который былъ неизвѣстенъ Геннадію (книга П_ѣ_с_н_и П_ѣ_с_н_е_й). Нельзя не отмѣтить и того любопытнаго факта, что именно энергическая дѣятельность Ивана Ѳедорова, такъ ярко проявившаяся въ Острогѣ, оказала сильное вліяніе и на весь Юго-Западъ Руси; изъ Острога, какъ центра, книгопечатаніе распространилось по различнымъ мѣстностямъ и наконецъ появилось въ Кіевѣ; и во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ — острожскія изданія служили образцами, а книги печатались шрифтами, полученными изъ Острога.
Къ сожалѣнію, намъ вовсе неизвѣстно, почему именно Иванъ Ѳедоровъ, послѣ напечатанія Библіи, не остался въ Острогѣ. Мы видимъ, что въ 1581 г. онъ снова переселяется во Львовъ и, проживши тамъ два года, умираетъ въ бѣдности, повидимому забытый всѣми (5 дек. 1583 г.). Онъ погребенъ былъ на кладбищѣ при Онуфріевской церкви; рукою неизвѣстнаго почитателя (можетъ быть, сына) по краямъ его надгробной плиты начертана скромная надпись: «друкарь москвитинъ, который своимъ тщаніемъ друкованіе занедбалое (покинутое) обновилъ»… далѣе внизу: «друкарь книгъ предъ тымъ невиданныхъ»…
Спустя нѣсколько времени послѣ бѣгства первыхъ русскихъ мастеровъ печатнаго дѣла изъ Москвы, преслѣдованье противъ типографскаго искусства, повидимому, прекратилось, потому что уже въ 1568 г. была напечатана въ Москвѣ П_с_а_л_т_и_р_ь н_ѣ_к_і_и_м_ъ А_н_д_р_о_н_и_к_о_м_ъ Н_е_в_ѣ_ж_е_ю, а въ 1568 — она же перепечатана въ Александровской слободѣ, во вновь устроенной типографіи. Но и самое книгопечатанье неспособно было, какъ мы увидимъ далѣе, «окрылить мысль человѣческую» у насъ на Руси, среди той тягостной общественной и политической атмосферы, въ которой приходилось жить русскимъ людямъ XVI столѣтія. Вліяніе, оказанное книгопечатаньемъ, было такъ ничтожно, такъ незамѣтно въ средѣ современниковъ Іоанна Грознаго, что рядомъ съ книгопечатаньемъ, но въ гораздо большихъ размѣрахъ, продолжалось переписыванье рукописей полуграмотными писцами, и еще цѣлыхъ полтора вѣка способно было выдерживать борьбу съ типографскимъ станкомъ: — даже и въ царствованье Петра Великаго многіе иностранцы, пріѣзжавшіе въ Россію, еще бывали поражены огромнымъ количествомъ рукописей, которыя расходились рядомъ съ книгами, находили себѣ читателей и покупателей, и давали пропитаніе цѣлой массѣ писцовъ.

XIV
правитьСвѣтская литература въ XVI вѣкѣ; Іоаннъ Гроpный и его сочиненія. — Характеръ и литературная дѣятельность князя А. М. Курбскаго; его переписка съ Грознымъ. — Первые опыты прагматической исторіи.
правитьМы встрѣчаемся въ XVI столѣтіи, заканчивающемъ собою древній періодъ нашей литературы, снова съ такимъ явленіемъ, которое казалось у насъ совсѣмъ исчезнувшимъ, вмѣстѣ съ литературными преданіями до-татарскаго періода. Въ правленіе Іоанна Грознаго мы видимъ снова проблески свѣтской литературы, видимъ снова авторами людей, принадлежащихъ къ высшему слою современнаго общества. Двумя важнѣйшими представителями свѣтской литературы во второй половинѣ XVI вѣка являются самъ І_о_а_н_н_ъ Г_р_о_з_н_ы_й и князь А_н_д_р_е_й М_и_х_а_й_л_о_в_и_ч_ъ К_у_р_б_с_к_і_й, происходившій также отъ одного изъ потомковъ Мономаховыхъ.
Намъ, конечно, могли бы замѣтить, что свѣтская литература не переставала у насъ существовать и въ теченіе всего времени до XVI столѣтія, такъ какъ, начиная съ XIII, а можетъ быть даже и съ XII вѣка, у насъ не переставала распространяться литература повѣстей и сказокъ, заносимыхъ къ намъ и непосредственно изъ Византіи, и чрезъ славянскія земли. Но мы возразимъ, что эта литература повѣстей и сказокъ имѣла мало общаго съ литературою свѣтскою до-татарскаго періода, не была связана съ нашею общественною жизнью, и даже распространялась у насъ на Руси черезъ тѣхъ же грамотѣевъ, принадлежавшихъ духовному сословію, которые занимались перенесеніемъ на почву нашей словесности и другихъ произведеній, принадлежавшихъ къ литературѣ поучительной и догматической. Уже самое это обстоятельство указываетъ на то, какъ мало значенія имѣла литература, въ которой книжники наши изъ духовнаго сословія, правда, находили иногда не совсѣмъ позволительное легкое чтеніе, которымъ и развлекались въ часы досуга но которая все же не проистекала изъ насущныхъ потребностей нашей общественной жизни и не была ея непосредственнымъ результатомъ.
Напротивъ того, наша свѣтская литература XVI столѣтія — хотя и совершенно случайно — явилась живѣйшимъ выраженіемъ современности, прямымъ слѣдствіемъ борьбы двухъ противоположныхъ началъ, преобладавшихъ въ общественной средѣ нашей древней Руси. Еще большій интересъ должно было придать всѣмъ подобнымъ произведеніямъ свѣтской литературы то обстоятельство, что авторами этихъ произведеній явились два образованнѣйшіе представителя нашего XVI вѣка, если и не одинаково сильные въ искусствѣ выраженія своихъ мыслей, не одинаково подготовленные къ дѣятельности литературной, то все же почти равносильные по талантливости, по энергіи и по одушевленію, которыя они вносили въ свои произведенія. И тотъ, и другой изъ этихъ первыхъ нашихъ свѣтскихъ писателей вполнѣ заслуживаютъ внимательнаго изученія, а ихъ литературная дѣятельность подробнаго разбора.
Личность Іоанна Грознаго, благодаря многосторонней исторической и литературной разработкѣ, получила въ послѣднее время такую общераспространенную извѣстность, что мы считаемъ здѣсь совершенно излишнею всякую характеристику этого крупнаго историческаго дѣятеля. Для насъ гораздо болѣе важна характеристика Грознаго, какъ писателя. Съ этой стороны онъ, во многихъ отношеніяхъ, отражаетъ на себѣ вліяніе своего вѣка, своего тягостнаго и тревожнаго дѣтства, наконецъ своего воспитанія, основаннаго на томъ, что было выработано предшествующею эпохой нашей исторической жизни. Не разъ уже повторялась въ нашей литературѣ, по отношенію къ Іоанну Грозному, та совершенно справедливая мысль, что характеръ его, какъ правителя, былъ лишь весьма естественнымъ слѣдствіемъ всего предшествовавшаго историческаго періода Московскаго государства, въ теченіе котораго множество различныхъ условій способствовали тому, чтобы въ рукахъ правителя сосредоточивалась мало-по-малу самая неограниченная власть, которая ничѣмъ не обуздывалась, ничѣмъ не ослаблялась, такъ какъ всѣ окружавшіе ее элементы были несравненно слабѣе ея или по крайней мѣрѣ развивались далеко не въ равной мѣрѣ съ могуществомъ, которое видимъ въ рукахъ правителя, стоявшаго во главѣ Московскаго государства. Правитель этотъ — сначала великій князь, а потомъ и царь — становился болѣе и болѣе могущественнымъ, по мѣрѣ того, какъ окружавшіе его элементы, духовенство и боярство, болѣе и болѣе утрачивали свое могущество и значеніе. Къ началу XVI вѣка, та вольная и самостоятельная дружина, которая нѣкогда окружала всякаго князя, обратилась, въ средѣ, окружавшей потомка прежнихъ князей московскихъ, въ простую толпу придворныхъ, вполнѣ зависимую отъ произвола правителя, готовую на всѣ услуги ради того, чтобы этотъ произволъ направить въ свою пользу, совершенно поглощенную своими мелкими личными интересами, почти неспособную заниматься интересами земли и народа. Отдѣльные княжескіе роды, нѣкогда грозные своею властью, давно уже были сокрушены Москвою и затерты въ ту же безразличную и пеструю толпу боярства, въ которой, съ половины XV вѣка, рядомъ съ представителями старинныхъ родовъ русскихъ, видимъ и выходцевъ изъ Литвы, и татарскихъ князьковъ. Само собою разумѣется, что эта толпа бояръ, способная тревожиться только о своихъ интересахъ личныхъ, не могла препятствовать развитію личнаго произвола въ правителѣ Московскаго государства, и только способствовала тому, чтобы окружить его цѣлою сѣтью самыхъ разнообразныхъ интригъ, которыхъ онъ становился то игрушкою, то орудіемъ. Само духовенство, нѣкогда представлявшее собою важный и положительный оплотъ противъ произвола княжескаго, къ началу XVI столѣтія является на столько занятымъ своими частными интересами, раздорами и полемикой партій, на столько отрѣшившимся отъ стародавнихъ преданій, что его авторитетъ, какъ мы увидимъ ниже, совершенно уничтожался авторитетомъ главы Московскаго государства, преклонялся передъ его всемогуществомъ. И въ такую- то эпоху полнѣйшаго развитія личнаго произвола суждено было явиться Іоанну, который, въ довершеніе всего, воспитался среди самыхъ невыгодныхъ условій, среди крамолъ и борьбы разнузданныхъ придворныхъ партій, которыя въ самой ранней юности завладѣли имъ, прикрывали его интересами свои грубыя, корыстныя цѣли, развращали его, раболѣпствуя передъ нимъ и потворствуя его слабостямъ, развивая въ немъ кровожадные инстинкты тою безпощадностью, тою мстительностью, которою они сами дышали противъ враговъ своихъ.
Исторія царствованія Іоанна Грознаго убѣждаетъ насъ въ томъ, что плоды воспитанія превзошли ожиданія воспитателей, и тотъ, кого одна партія двора старалась сдѣлать бичомъ для остальныхъ, сдѣлался неумолимымъ бичомъ для всего боярства безразлично. Онъ одинаково презиралъ всѣхъ окружавшихъ, привыкъ всему и всѣмъ недовѣрять и надъ всѣмъ способенъ былъ насмѣхаться… Уважать Іоаннъ могъ только себя и свой личный произволъ, свою волю, которую онъ старался облечь даже особымъ покровомъ святости, прибавивъ къ царскому титулу своему такъ называемое богословіе, по присоединеніи котораго титулъ его сталъ читаться такъ: «Троице пресущественная и пребожественная и преблагая правѣ вѣрующимъ въ Тя истиннымъ христіянамъ, Дателю премудрости, преневѣдомій и пресвѣтлій Крайній Верхъ! направи насъ на истину Твою и постави насъ на повелѣнія Твоя, да возглаголемъ о людѣхъ Твоихъ по волѣ Твоей. Сего убо Бога нашего, въ Троицѣ славимаго, милостью и хотѣніемъ удержахомъ скипетръ Россійскаго царствія мы, великій государь, царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи самодержецъ, Владимірскій, Московскій, Новгородскій, царь Казанскій и т. д.». Стараясь такимъ образомъ, до возможнаго предѣла, возвысить значеніе своей личности и сана, Іоаннъ, въ тѣхъ же видахъ, съ другой стороны, любилъ указывать на происхожденіе свое отъ знаменитыхъ предковъ: Владиміра Равноапостольнаго, Мономаха, Александра Невскаго и Дмитрія… Въ тѣхъ же видахъ, пренебрегая исторической истиной, любилъ онъ на отдаленное прошлое указывать, какъ на достойное всякаго подражанія и придавать ему такія краски, приписывать такія свѣтлыя, завидныя стороны, которыя вовсе не были прошлому свойственны. И несмотря на эту кажущуюся, внѣшнюю привязанность къ старинѣ, въ которой Іоаннъ старался указать идеалъ для настоящаго, навязывая прошедшему то, что было исключительнымъ плодомъ его собственной фантазіи, онъ, въ то же время, питалъ сильнѣйшую ненависть и полное презрѣніе ко всѣмъ преданіямъ, завѣщаннымъ современности отдаленнымъ прошлымъ, и ожесточенно попиралъ ихъ ногами… Такъ уничтожены были имъ цѣлые десятки старинныхъ родовъ боярскихъ и княжескихъ, и на мѣсто ихъ выдвинуты люди самаго невиднаго, неизвѣстнаго происхожденія; такъ монастыри были имъ обращены въ мѣста для ссылки или насильственнаго постриженія тѣхъ вельможъ, которыми онъ имѣлъ основаніе быть недовольнымъ; такъ, наконецъ, онъ не по- боялся поднять руку и на главу церкви: — митрополитъ Филиппъ былъ заточенъ и умерщвленъ по его повелѣнію. И вотъ, изъ этой-то безпрерывной и безпокойной борьбы двухъ противоположныхъ стремленій своего нравственнаго бытія, изъ этой многосложной путаницы противорѣчій, Іоаннъ Грозный старался выйдти при помощи ироніи, большею частью ѣдкой и злобной, почти всегда мѣтко достигавшей своей цѣли… Эта иронія, ловко скрытая подъ покровомъ внѣшняго спокойствія, оттѣняющая всѣ сужденія и доводы Іоанна, представляетъ собою наиболѣе видную и замѣчательную сторону всѣхъ сочиненій его. Эта сторона рѣзче всего высказалась въ двухъ наиболѣе замѣчательныхъ сочиненіяхъ Іоанна Грознаго: — въ его п_е_р_е_п_и_с_к_ѣ с_ъ к_н_я_з_е_м_ъ К_у_р_б_с_к_и_м_ъ и в_ъ п_о_с_л_а_н_і_и к_ъ К_о_з_ь_м_ѣ, и_г_у_м_н_у К_и_р_и_л_л_о-б_ѣ_л_о_з_е_р_с_к_а_г_о м_о_н_а_с_т_ы_р_я.

Мы обратимъ на эти два произведенія Іоанна особое вниманіе читателей и замѣтимъ, по отношенію къ сочиненіямъ Іоанна, что они выказываютъ въ немъ человѣка весьма начитаннаго, хорошо знакомаго и съ Св. Писаніемъ, и съ переводами сочиненій св. Отцовъ Церкви, и съ русскими. лѣтописями, и съ хронографами, изъ которыхъ онъ почерпалъ свѣдѣнія даже и по всеобщей исторіи (Римской и Византійской). Обладая обширною начитанностью, но не получивъ положительно никакого образованія, онъ часто не знаетъ, какъ воспользоваться и какъ распорядиться всѣмъ тѣмъ запасомъ свѣдѣній, фактовъ и образовъ, которые представляетъ ему память; отсюда запутанность изложенія, загроможденіе рѣчи множествомъ кстати и некстати приводимыхъ цитатъ, неясность слога всюду, гдѣ Іоаннъ старается выразить свою мысль въ формѣ книжной, пренебрегая простымъ народнымъ способомъ выраженія, который ему особенно оказывается свойственъ.
Всѣ достоинства и недостатки Іоаннова литературнаго изложенія особенно ярко выступаютъ въ тѣхъ двухъ наиболѣе замѣчательныхъ произведеніяхъ его пера, о которыхъ мы упомянули выше. Въ «посланіи къ игумну Кирилло-бѣлозерскаго монастыря» Іоаннъ противополагаетъ идеальный образъ иноческаго совершенства тому упадку нравственности въ монашествѣ, о которомъ онъ зналъ самъ, и о которомъ писалъ ему, сверхъ того, даже игуменъ Кирилло-бѣлозерскаго монастыря, жалуясь на неприличное поведеніе иноковъ и на ихъ постоянное общеніе съ тѣми боярами (Шереметевымъ и Хабаровымъ), которые подвергнувшись опалѣ при дворѣ Іоанновомъ, по собственной волѣ или по его понужденію, поступили въ монастырь, но жили въ немъ также разгульно и шумно, какъ и въ мірѣ, до постриженія. Обращаясь къ Іоанну съ жалобой на братью, Козьма въ то же время и проситъ царя прислать въ монастырь строгое наставленіе, съ которымъ бы братья должна была сообразовать свой бытъ. Этимъ-то случаемъ и пользуется Іоаннъ въ своемъ посланіи, чтобы излить всю желчь своей ироніи противъ монашества, которое отрекается отъ стародавнихъ преданій, завѣщанныхъ ему великими подвижниками русскими, и поблажаетъ развращеннымъ боярамъ. Хотя все посланіе это построено довольно нескладно, а выписки и цитаты изъ писателей, писавшихъ «о совершенномъ иноческомъ житіи», слишкомъ часты и слишкомъ многословны, притомъ же и расположены такъ, что часто пресѣкаютъ нить разсужденій самого автора, — однакоже нѣкоторыя мѣста посланія до такой степени живо рисуютъ печальное современное положеніе монастырской жизни, что даютъ намъ весьма выгодное понятіе объ авторскомъ талантѣ Грознаго, который здѣсь проявляется во всей силѣ своей ироніи. Приводимъ изъ посланія наиболѣе замѣчательное, опуская цитаты и общія мѣста. «Подобаетъ вамъ», — пишетъ Іоаннъ въ этомъ посланіи — «усердно послѣдовать великому чудотворцу Кириллу, преданіе его крѣпко держать, о истинѣ крѣпко подвизаться, а не быть бѣгунами, не бросать щита: возьмите все оружіе Божіе и не предавайте чудотворцева преданія ради сластолюбія, какъ Іуда предатель — Христа, ради серебра. Есть у васъ Анна и Каіафа — Шереметевъ и Хабаровъ 1), есть и Пилатъ — Варлаамъ Собакинъ, и есть Христосъ распинаемъ — чудотворцево преданіе презрѣнное. Отцы святые! въ маломъ допустите ослабу — большое зло произойдетъ. Такъ отъ послабленія Шереметеву и Хабарову чудотворцево преданіе у васъ нарушено. Если намъ благоволитъ Богъ у васъ постричься, то монастыря ужъ у васъ не будетъ, а вмѣсто него будетъ царскій дворъ! Но тогда зачѣмъ идти въ чернецы, зачѣмъ говорить: „отрицаюсь отъ міра и отъ всего, что въ мірѣ!“ Постригаемый даетъ обѣтъ: повиноваться игумну, слушаться всей братіи и любить ее; но Шереметеву какъ назвать монаховъ братьею? — у него и десятый холопъ, что въ кельѣ живетъ, ѣстъ лучше братій, которые въ трапезѣ ѣдятъ. Великіе свѣтильники, Сергій и Кириллъ, Варлаамъ, Дмитрій, Пафнутій и многіе преподобные въ Русской землѣ установили уставы иноческому житію крѣпкіе, какъ надобно спасаться; а бояре, пришедши къ вамъ, свои любострастные уставы ввели: значитъ, не они у васъ постригались, а вы у нихъ постриглись, не вы имъ учители и законоположители, а они — вамъ. Да, Шереметевъ уставъ добръ, держите его, а Кирилловъ уставъ плохъ — оставьте его! Сегодня одинъ бояринъ такую страсть введетъ, завтра другой — иную слабость, и такъ, мало по малу, весь обиходъ монастырей испразднится и будутъ обычаи мірскіе. И по всѣмъ монастырямъ сперва основатели установили крѣпкое житіе, а послѣ нихъ раззорили его любострастные. Кириллъ чудотворецъ на Симоновѣ былъ, а послѣ него Сергій, и законъ каковъ былъ — прочтите въ житіи чудотворцевъ; но потомъ одинъ малую слабость ввелъ, другіе ввели новыя слабости, и теперь что видимъ на Симоновѣ? Кромѣ сокровенныхъ рабовъ Божіихъ, остальные только по одеждѣ монахи, а все по мірскому дѣлается… Вотъ въ нашихъ глазахъ у Діонисія Преподобнаго на Глушицахъ, и у великаго чудотворца Александра на Свири бояре не постригаются, и монастыри эти процвѣтаютъ постническими подвигами. Вотъ у васъ сперва Іоасафу Умнову дали оловянники въ келью, дали Серапіону Сицкому, дали Іонѣ Ручкину, а Шереметеву уже дали и поставецъ, и поварню. Вѣдь дать волю царю — дать ее и псарю; оказать послабленіе вельможѣ, оказать его и простому человѣку… Прежде, какъ мы въ молодости были въ Кирилловѣ монастырѣ, и поопоздали ужинать, то завѣдывающій столомъ нашимъ началъ спрашивать у подкеларника стерлядей и другой рыбы; подкеларникъ отвѣчалъ: „объ этомъ мнѣ приказу не было, а о чемъ былъ приказъ, то я и приготовилъ; теперь ночь — взять негдѣ; государя боюсь, а Бога надобно больше бояться“. Такая у васъ тогда была крѣпость, по пророческому слову: „правдою и предъ цари не стыдихся“. А теперь у васъ Шереметевъ сидитъ въ кельѣ, что царь, а Хабаровъ къ нему приходить съ чернецами, да ѣдятъ и пьютъ, что въ міру, а Шереметевъ, невѣсть со свадьбы, невѣсть съ родинъ, разсылаетъ по кельямъ постилы, коврижки и иныя пряныя составныя овощи; а за монастыремъ у него дворъ, а на дворѣ запасы готовые всякіе, — а вы, молча, смотрите на такое безчиніе! А нѣкоторые говорятъ, что и вино горячее потихоньку въ келью къ Шереметеву приносили: но по монастырямъ и фряжескія вина держать зазорно, не только что горячее! Такъ это ли путь спасенія, это ли иноческое пребываніе? Или вамъ не было чѣмъ Шереметева кормить, что у него особые годовые запасы? Милые мои! прежде Кирилловъ монастырь многія страны пропитывалъ въ голодныя времена, а теперь и самихъ васъ въ хлѣбное время, еслибъ не Шереметевъ прокормилъ, то всѣ, небось, съ голоду бы померли? Пригоже ли такъ быть въ Кирилловѣ, какъ Іоасафъ митрополитъ у Троицы съ клирошанами пировалъ, или какъ Михаилъ Сукинъ въ Никитскомъ монастырѣ и по инымъ мѣстамъ, какъ вельможа какой нибудь жилъ, или какъ Іона Мотякинъ и другіе многіе живутъ? То ли путь спасенія, что въ чернецахъ бояринъ боярства не острижетъ, а холопъ холопства не избудетъ? У Троицы, при отцѣ нашемъ, келарь былъ Нифонтъ, Ряполовскаго холопъ, да съ Бѣльскимъ съ одного блюда ѣдалъ: а теперь бояре по всѣмъ монастырямъ испразднили это братство своимъ любострастіемъ. Скажу еще страшнѣе: какъ рыболовъ Петръ и поселянинъ Іоаннъ Богословъ и всѣ двѣнадцать убогихъ (т. е. апостоловъ) станутъ судить всѣмъ сильнымъ царямъ, обладавшимъ все-ленною: тогда Кирилла вамъ своего какъ съ Шереметевымъ поставить? Котораго выше? Шереметевъ постригся изъ боярства, а Кириллъ и въ приказѣ у государя не былъ! Видите ли, куда васъ слабость завела? Сергій, Кириллъ, Варлаамъ, Дмитрій и другіе святые многіе не гонялись за боярами, да бояре за ними гонялись, и обители ихъ распространялись: потому благочестіемъ монастыри стоять и неоскудны бываютъ. У Троицы въ Сергіевѣ монастырѣ благочестіе изсякло, и монастырь оскудѣлъ: не пострижется никто и не дастъ ничего. А на Сторожахъ до чего дошли? Уже и затворить монастыря некому, на трапезѣ трава растетъ; а прежде и мы видѣли братій до 80 бывало, клириковъ до 11 на клиросѣ стаивало. — Если же кто скажетъ, что Шереметевъ безъ хитрости болѣнъ и ему нужно дать послабленіе, то пусть онъ ѣстъ въ кельѣ, одинъ съ келейникомъ. А сходиться къ нему на что, да пировать, да овощи въ кельѣ, на что? До сихъ поръ въ Кирилловѣ иголки и нитки лишней не держали, не только что другихъ какихъ вещей. Вотъ и Хабаровъ (тоже) велитъ мнѣ перевести себя въ другой монастырь: я не ходатай ему и его скверному житію. Иноческое житіе не пирушка: три дня въ чернецахъ, а седьмой монастырь мѣняетъ! Когда былъ въ міру, то только и зналъ, что образа окладывать, книги въ бархатъ переплетать съ застежками и жуками серебряными, налой убирать, жить въ затворничествѣ; келью ставилъ, четки въ рукахъ; — а теперь съ братьею вмѣстѣ ѣсть не хочетъ. Надобны четки не на скрижаляхъ каменныхъ, а на скрижаляхъ сердецъ плотяныхъ; я самъ видѣлъ, какъ по четкамъ скверными словами бранятся; что въ тѣхъ четкахъ? О Хабаровѣ мнѣ нечего писать: какъ себѣ хочетъ, такъ и дурачится. А что Шереметевъ говоритъ, что его болѣзнь мнѣ вѣдома: то для всѣхъ леженекъ не раззорять стать законы святые! Написалъ я къ вамъ малое отъ многаго по любви къ вамъ и для иноческаго житія. больше писать нечего; а впредь бы вы о Шереметевѣ и другихъ такихъ же безлѣпицахъ намъ не докучали: намъ отвѣту (за это) не давать. Сами знаете: если благочестіе не потребно, а нечестіе — любо, то вы Шереметеву хотя золотые сосуды скуйте и чинъ царскій устройте — то вы вѣдаете; установите съ Шереметевымъ свои преданья, а чудотворцево отложите, и хорошо будетъ: какъ лучше, такъ и дѣлайте, сами вѣдайтесь, какъ себѣ съ нимъ хотите, а мнѣ до того ни до чего дѣла нѣтъ; впередъ о томъ не докучайте; говорю вамъ, что ничего отвѣчать не буду. Богъ же мира и пречистыя Богородицы милость и чудотворца Кирилла молитва да будетъ со всѣми вами и нами! Аминь. А мы вамъ, господа мои и отцы, челомъ бьемъ до лица земнаго».
1) Постриженные въ монастырѣ бояре, на поведеніе которыхъ, распространявшее соблазнъ въ монастырѣ, и жаловался Козьма.
Еще болѣе важнымъ для характеристики Іоаннова литературнаго таланта является другой памятникъ — его переписка съ княземъ Андреемъ Михайловичемъ Курбскимъ, относящаяся къ болѣе раннему періоду (а именно между 1563 и 1579 гг.); въ составъ ея входятъ два письма Іоанновыхъ, изъ которыхъ одно, по объему, равняется цѣлой книгѣ, и четыре письма Курбскаго.
Курбскій — личность во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчательная. Онъ родился около 1528 года и принадлежалъ, по происхожденію, къ одному изъ знаменитѣйшихъ родовъ боярскихъ, котораго родоначальникомъ былъ потомокъ Владиміра Мономаха, св. чудотворецъ Ѳеодоръ Ростиславичъ, князь смоленскій и ярославскій, жившій въ концѣ XIII вѣка, Ближайшіе предки и родичи его, и самъ отецъ князя Андрея славились замѣчательнымъ благочестіемъ и доблестью воинскою. Отецъ его былъ однимъ изъ главныхъ воеводъ въ малолѣтство Іоанна ІУ. И князю Андрею Михайловичу тоже рано пришлось начать, подвиги ратные; 21 года онъ сопутствовалъ Іоанну въ его главномъ походѣ подъ стѣны Казани и, вмѣстѣ съ братомъ своимъ, пріобрѣлъ всеобщее уваженіе геройскими подвигами своими при осадѣ этого города. Съ этой поры и до 1563 года онъ постоянно сражался съ врагами отечества, любимый Іоанномъ, уважаемый всѣми, какъ мужественнѣйшій и способнѣйшій изъ современныхъ воеводъ русскихъ; то приходилось ему биться съ крымскими татарами, то съ Литвой, то наконецъ съ ливонскими рыцарями, и всюду побѣда сопровождала его оружіе. Но вотъ, въ 1563 году, любимый царскій воевода, князь А. М. Курбскій, измѣняетъ царю и, тайно перебѣжавъ границу русскихъ владѣній въ Ливоніи, переходитъ на службу къ королю польскому. Должно предполагать, что къ этому бѣгству вынужденъ былъ Курбскій тою сильною перемѣною, которая не задолго передъ тѣмъ произошла въ Іоаннѣ и такъ пагубно отозвалась на всемъ остальномъ правленіи его. Ближайшіе друзья и сторонники князя — Сильвестръ, Адашевъ, Воротынскій, Шереметевъ — не задолго передъ тѣмъ были удалены отъ двора; партія, къ которой онъ самъ принадлежалъ, подверглась сильнѣйшимъ гоненіямъ; ему самому пришлось быть свидѣтелемъ позорной казни князя Михаила Рѣпнина и Дмитрія Курлетева… А между тѣмъ, къ нему, какъ и къ другимъ воеводамъ и вельможамъ Іоанновымъ, король польскій не разъ уже тайно присылалъ зазывные листы, въ которыхъ сулилъ ласку и привольное житье въ королевствѣ своемъ. Мелкое дворянство русское толпами, на глазахъ Курбскаго, уходило въ Литву, гдѣ и получало земли. И вотъ, не смотря на то, что большая часть бояръ Іоанновыхъ оставалась непоколебимо вѣрна царю и не обращала вниманія на заискивающія приглашенія Сигизмунда-Августа, — князь Андрей Курбскій, съ ужасомъ помышляя о томъ, что, можетъ быть, и его ожидаетъ въ будущемъ безчестная казнь въ награду за всѣ его заслуги, рѣшился бѣжать изъ отечества… Одинъ изъ современниковъ Курбскаго сообщаетъ слѣдующія подробности о его бѣгствѣ въ Литву: «въ 1563 году, бывъ воеводою въ Юрьевѣ ливонскомъ или Дерптѣ, съ зятемъ своимъ, княземъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ Прозоровскимъ, свѣдалъ Курбскій о гнѣвѣ царя: мысль о позорной казни, п_о_с_л_ѣ т_о_л_и_к_и_х_ъ з_а_с_л_у_г_ъ, о_ж_е_с_т_о_ч_и_л_а е_г_о». «Чего хочешь ты», спросилъ онъ жену свою, «мертвымъ ли меня видѣть передъ собою, или съ живымъ разстаться на вѣки?» — «Не только видѣть тебя мертвымъ, но и слышать о смерти твоей не желаю», отвѣчала жена. Съ горькими слезами облобызавъ супругу и 9-ти-лѣтняго сына, князь только перелѣзъ черезъ стѣну крѣпостную, бросилъ городскіе ключи въ колодезь, нашелъ двухъ коней, приготовленныхъ его слугою Шибановымъ, и ускакалъ съ ними въ городъ Вилькоміръ, занятый литовцами. Здѣсь немедленно написалъ онъ къ Іоанну письмо, исполненное упрековъ, и послалъ съ нимъ Шибанова въ Москву. Вѣрный слуга подалъ письмо самому Іоанну на Красномъ крыльцѣ, сказавъ: «отъ господина моего, твоего измѣнника, князя Курбскаго». Царь, пылая гнѣвомъ, подозвалъ Шибанова, ударилъ его въ ногу своимъ остроконечнымъ посохомъ и пробилъ ее: кровь полилась изъ язвы… Шибановъ, не измѣняясь въ_лицѣ, молчалъ. Царь же налегъ на посохъ и приказалъ читать письмо" 1).
1) См. Устрялова. Сказанія князя Курбскаго; вступленіе. Этотъ же эпизодъ послужилъ сюжетмкъ баллады для графа А. Толстаго, подъ заглавіемъ «Василій Шибановъ».
Съ этого-то времени завязалась между княземъ Курбскимъ и Іоанномъ знаменитая переписка ихъ, которая осталась намъ послѣднимъ памятникомъ борьбы удѣльно-вѣчеваго начала съ единодержавнымъ — но уже борьбы словесной, не борьбы оружіемъ, такъ какъ время борьбы матерьяльной уже миновало для сословія прежнихъ дружинниковъ, давно переродившихся въ боярство, въ служилыхъ людей Московскаго государства. Здѣсь, въ первый разъ, могущественнѣйшему изъ правителей Московскаго государства пришлось услышать голосъ отдѣльной личности, отстаивавшей свои права противъ всепоглощающей власти его и точно также основывавшей ихъ на преданіи, какъ на преданіи же самъ Іоаннъ Грозный основывалъ свое безпредѣльное и страшное могущество. На этомъ основаніи Курбскій, въ своихъ письмахъ, старается постоянно укорить Іоанна въ злоупотребленіи властью, данной ему отъ Бога, старается доказать, что правленіе его только до той поры и было достославнымъ, пока онъ былъ окруженъ добрыми совѣтниками и мужественными сподвижниками. Іоаннъ же, напротивъ того, опровергая Курбскаго, приписываетъ себѣ всѣ достославныя событія своего царствованія, съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ боярства, отвергаетъ всякое значеніе этого сословія, и доказываетъ Курбскому, что неповиновеніемъ своимъ его царской водѣ онъ погубилъ не только свою душу, но и души предковъ своихъ. Этотъ доводъ, вѣроятно, долженъ былъ всего сильнѣе дѣйствовать на благочестиваго князя, и противникъ его очень хорошо сознаетъ это, а потому и возвращается къ нему какъ можно чаще, подкрѣпляя его обильными цитатами .изъ Св. Писанія. Въ свою очередь и Курбскій старается оправдать себя не только существующимъ порядкомъ вещей, вынудившихъ его къ бѣгству, но и примѣромъ Давида, который «принужденъ былъ, гоненія ради Саулова, со поганскимъ царемъ на землю израилеву воевати (см. отвѣтъ на второе посланіе Іоанново)». Но Іоаннъ не отступаетъ отъ основной мысли и старается до конца измучить, истерзать своего противника, развивая передъ нимъ ужасную картину бѣдствій, которыя должны быть слѣдствіемъ его измѣны.
«Зачѣмъже, князь! если ты считаешь себя благочестивымъ» — такъ пишетъ онъ къ Курбскому — «зачѣмъ отвергнулъ ты единородную свою душу? Что дашь ты взамѣнъ ея въ день страшнаго суда? Если ты даже и міръ весь пріобрѣтешь, — смерть все-таки, на послѣдокъ, похититъ тебя! Чего же ты изъ-за тѣла-то душу продалъ свою?… Ты возъярился на меня и, погубивъ свою душу, (вмѣстѣ съ врагами моими) рѣшился на церковное раззореніе… Иди ты думаешь, окаянный, что убережешься (раззоренія церковнаго)? Никакъ. Коли тебѣ съ ними воевать (т. е. съ литовцами), тогда и церкви тебѣ прійдется раззорять, и иконы попирать, и христіанъ погублять… Помысли же, князь, какъ во время браннаго-то нашествія нѣжныя тѣла младенцевъ будутъ попираемы и терзаемы конскими ногами'?!…»
«Если ты праведенъ и благочестивъ, по-чему же не изволилъ ты отъ меня, строптиваго владыки, пострадать и вѣнецъ жизни (вѣчной) наслѣдовать?… Ты, ради тѣла, погубилъ свою душу… и не на человѣка возъярился, но на Бога! Разумѣй же, б_ѣ_д_н_я_к_ъ, съ какой высоты и въ какую пропасть сошелъ ты душою и тѣломъ?… Такъ-то, вотъ въ чемъ и благочестіе твое все, что ты изъ самолюбія себя погубилъ… Я думаю, что и окружающіе тебя тамъ, имѣющіе разумъ, тоже могутъ понять твой злобный ядъ, да и то, что ты, изъ желанія мимолетной славы и богатства, все это сдѣлалъ, а не потому, чтобы отъ смерти бѣгалъ. Коли ты точно праведенъ и благочестивъ, какъ ты самъ о себѣ говоришь, такъ чего же ты испугался неповинной смерти; — вѣдь такая-то смерть не есть смерть, а пріобрѣтенье? Все равно, вѣдь напослѣдокъ умрешь же!»
При этой страшной логикѣ своей, Іоаннъ, при случаѣ, не пренебрегаетъ возможностью и очень зло, очень ѣдко посмѣяться надъ своимъ противникомъ. Такъ, напримѣръ, во второмъ письмѣ къ Курбскому, которое отличается большимъ спокойствіемъ и большею насмѣшливостью, нежели первое, такъ какъ оно было писано послѣ нѣсколькихъ побѣдъ, одержанныхъ имъ въ ливоніи, Іоаннъ не упускаетъ случая похвалиться передъ княземъ успѣхами своего оружія, и прибавляетъ: «писалъ ты себѣ въ досаду, что мы тебя въ дальніе города, какъ бы въ опалѣ держа, посылали: теперь мы, но волѣ Божіей, и дальше твоихъ далекихъ городовъ прошли, и кони наши переѣхали всѣ ваши дороги изъ Литвы и въ Литву, и пѣши ходили, и воду во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ пили: теперь уже нельзя сказать, что не вездѣ коня нашего ноги были. И гдѣ ты думалъ успокоиться отъ твоихъ трудовъ, въ Вольмарѣ, и тутъ на покой твой насъ Богъ принесъ; и гдѣ ты думалъ уйти отъ насъ, мы и тутъ, по волѣ Божіей, тебя догнали: — и поѣхалъ ты дальше».
Вообще, сравнивая письма Іоанновы съ письмами Курбскаго, мы находимъ между ними значительную разницу, не только въ духѣ, но и въ самомъ способѣ изложенія. Іоаннъ, при несомнѣнномъ своемъ талантѣ литературномъ, при врожденномъ остроуміи, все же не мастеръ писать, не мастеръ излагать литературно, потому что не прошелъ никакой правильной школы, и былъ въ полномъ смыслѣ самоучка и начетчикъ; этотъ недостатокъ ученія много вредитъ точности, его изложенія, часто заставляетъ его путаться въ словахъ, расплываться въ потокахъ страшнаго многословія… Къ тому же не рѣдко, вмѣсто всякихъ доводовъ, Іоаннъ обращается къ площадной брани, которою нещадно осыпаетъ противника своего. Трудно, впрочемъ, ставить ему это послѣднее обстоятельство въ вину, такъ какъ брань была въ то время въ обычаѣ не только у насъ, въ видѣ приправы и доказательства въ различныхъ спорахъ и словопреніяхъ: она играла немаловажную роль и въ современной Іоанну Западной Европѣ, гдѣ не была исключена даже изъ ученыхъ диспутовъ и богословскихъ трактатовъ.

Инымъ духомъ, иною внѣшностью отличаются письма Курбскаго къ Іоанну. Не говоря уже о томъ, что они написаны гораздо правильнѣе и яснѣе, въ отношеніи къ изложенію мысли, они, и по самой основной идеѣ своей, указываютъ намъ въ Курбскомъ человѣка учившагося, воспитаннаго, привыкнувшаго тонко понимать и глубоко чувствовать многое изъ того, что едва-ли было и доступно его противнику. Письма его, сравнительно съ письмами Іоанна, поражаютъ своею приличностью, своею сдержанностью, даже нѣкоторою изысканностью выраженій. Онъ это и самъ чувствуетъ, самъ знаетъ и ставитъ въ укоръ Іоанну его грубость и рѣзкость выраженій, его неумѣнье писать и необразованность. Такъ въ самомъ началѣ своего втораго письма къ Іоанну, которое Курбскій называетъ «краткимъ отвѣщаніемъ на зѣло широкую эпистолію великаго князя московскаго», Курбскій прямо говоритъ, что царю стыдно бы такъ нескладно писать, сравниваетъ непослѣдовательность его изложенія съ б_а_б_ь_и_м_и б_р_е_д_н_я_м_и, и говоритъ, что пишетъ царь такъ по-варварски, ,,что не только искуснымъ и ученымъ людямъ, но даже и дѣтямъ читать его письмо смѣшно и удивительно"; въ особенности же странно читать его въ «чужой землѣ, гдѣ находятся люди, опытные не только въ грамматикѣ и риторикѣ, но даже въ діалектикѣ и философіи». «Могъ-бы я тебѣ отвѣчать на каждое твое слово», прибавляетъ Курбскій въ концѣ своего письма, «но (долженъ замѣтить, что) мужамъ благороднымъ не прилично ссориться, словно рабамъ, въ особенности же стыдно христіанамъ отрыгать изъ устъ слова нечистыя и кусательныя, такъ я много разъ и прежде говорилъ». Въ отвѣтъ на брань и насмѣшки Іоанновы, Курбскій замѣчаетъ ему, что онъ заслуживаетъ не насмѣшекъ и брани, а сожалѣнія, какъ несчастный, изгнанный изъ отечества, вынужденный къ скитанію по чужимъ землямъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно тамъ, гдѣ онъ вспоминаетъ о погибнувшихъ сотоварищахъ своихъ и въ гибели ихъ укоряетъ Іоанна, — письма Курбскаго исполнены замѣчательнаго, неподдѣльнаго чувства. Таково, напримѣръ, слѣдующее мѣсто изъ перваго посланія, которое историкъ нашъ Соловьевъ справедливо назвалъ «болѣзненнымъ воплемъ изъ могилы»:
«Зачѣмъ, о царь!» — восклицаетъ въ этомъ посланіи Курбскій — «зачѣмъ побилъ ты сильныхъ во Израили, и воеводъ, отъ Бога тебѣ данныхъ, различнымъ смертямъ предалъ, и побѣдоносную и святую кровь ихъ въ церквахъ Божіихъ и на торжествахъ владычныхъ пролилъ, и мученическою кровью ихъ пороги церковные обагрилъ?!… Чѣмъ провинились они передъ тобою, о царь! Или чѣмъ прогнѣвали тебя, христіанскій предстатель? Не прегордыя-ли царства храбростью своею раззорили и сдѣлали тебѣ подручниками тѣхъ, у которыхъ прежде въ рабствѣ были праотцы наши? Не претвердые-ли города германскіе тщаніемъ разума ихъ отъ Бога тебѣ даны были? И вотъ твое имъ воздаяніе: — всѣхъ насъ губишь! Или думаешь, что самъ ты безсмертенъ; или, предьщенный ересью, полагаешь, что не будетъ суда Іисусова? Христосъ, сидящій на престолѣ херувимскомъ — судья между тобою и мною!»
Вообще, не въ одной только перепискѣ съ Іоанномъ является намъ Курбскій человѣкомъ просвѣщеннымъ и замѣчательно образованнымъ: эти стороны его нравственной личности еще рѣзче высказываются въ остальныхъ сочиненіяхъ его и во всей той дѣятельности, которой онъ посвятилъ себя на чужбинѣ, вдали отъ любимой и милой ему родины, о которой онъ не забывалъ никогда, и которой не переставалъ служить, защищая въ Литвѣ своихъ единовѣрцевъ и стараясь всѣми силами поддержать тамъ вѣру отцовъ своихъ, попираемую іезуитами. Кромѣ четырехъ писемъ Іоанну, Курбскій писалъ весьма замѣчательную исторію царствованія Іоанна Грознаго, подъ заглавіемъ: «Исторія кн. великаго московскаго о дѣлѣхъ, яже слышахомъ у достовѣрныхъ мужей и яже видѣхомъ очима нашима». Исторію эту Курбскій довелъ до 1578 года. Начавъ съ разсказа о дѣтствѣ Іоанновомъ, упомянувъ сначала о жестокомъ правленіи отца Іоаннова, о разводѣ его съ первою супругою, Курбскій описываетъ несчастное воспитаніе Грознаго и смерть многихъ бояръ, погибшихъ во время малолѣтства его. Затѣмъ онъ разсказываетъ о московскомъ мятежѣ и о чудномъ исправленіи Іоанна стараніями Сильвестра и Адашева, потомъ весьма подробно повѣствуетъ о покореніи царства казанскаго, о походахъ на крымскихъ татаръ, о завоеваніи Астрахани и о ливонской войнѣ; наконецъ переходитъ онъ къ главному предмету своего сочиненія: — къ описанію злодѣяній Іоанна ІV, при чемъ весьма обстоятельно поясняетъ и причину перемѣны, происшедшей въ немъ.
Этотъ трудъ князя Курбскаго важенъ не только, какъ свидѣтельство современника и очевидца объ одной изъ самыхъ любопытныхъ историческихъ эпохъ, не только, какъ сочиненіе человѣка просвѣщеннаго, заслуживающее довѣрія, по общему отзыву нашихъ ученыхъ: — этотъ трудъ важенъ еще въ исторіи нашей литературы, какъ первая и вполнѣ удачная попытка перехода отъ лѣтописнаго изложенія событій къ плавному историческому разсказу, въ которомъ всякое событіе относится къ предъидущему, какъ слѣдствіе, въ которомъ авторъ болѣе всего заботится о связи между фактами, о логической, послѣдовательной зависимости ихъ отъ главной причины. Въ основу своего сочиненія князь Курбскій положилъ ту мысль, что Іоаннъ былъ добрымъ и хорошимъ правителемъ «доколѣ любилъ около себя добрыхъ и правду совѣтующихъ», и мысль эта проведена у него весьма послѣдовательно во всей его книгѣ.
Большую часть жизни, послѣ бѣгства изъ Россій, Курбскій провелъ въ Мселяновигахъ, бѣдномъ мѣстечкѣ близь пожалованнаго ему городка Ковля. Тутъ былъ и дворецъ его съ садомъ и хозяйственными зданіями, который помѣщался на площади, примыкающей съ юга къ Мселяновигамъ. На лѣвой сторонѣ двора жители указываютъ мѣсто придворной церкви. Суровый и одинокій «среди сесѣдей ненавистныхъ и лукавыхъ», онъ жилъ уединенно, предаваясь исключительно изученію латинскихъ классиковъ и переводамъ сочиненій св. отцовъ. Горячо сочувствуя интересамъ своихъ угнетаемыхъ на Литвѣ единовѣрцевъ, онъ всѣми силами старался поддержать ихъ, переписывался со многими изъ православной, неокатоличенной еще литовской знати, перевелъ на пользу православія нѣкоторыя бесѣды Іоанна Златоуста и написалъ правдивую исторію флорентійскаго собора. Особенно хлопоталъ о переводахъ твореній св. отцовъ на русскій языкъ и, не надѣясь на свое умѣнье, поощрялъ къ этой дѣятельности другихъ. Эта энергическая дѣятельность его на пользу православія и просвѣщенія всего яснѣе высказывается въ слѣдующемъ мѣстѣ изъ предисловія къ его переводу книги Іоанна Дамаскина: «Н_е_б_е_с_а». Указывая и самъ на значеніе просвѣщенія вообще, Курбскій возстаетъ противъ тѣхъ изъ своихъ соотечественниковъ, которые не понимали его значенія. «Бога ради» — пишетъ онъ, — «не потакаемъ безумнымъ или, лучше сказать, лукавымъ прелестникамъ, выдающимъ себя за учителей. Я самъ отъ нихъ слыхалъ, еще будучи въ русской землѣ, подъ державою московскаго царя: прельщаютъ они юношей трудолюбивыхъ, желающихъ навыкнуть писанію, говорятъ имъ: не читайте книгъ многихъ и указывають: вотъ этотъ отъ книгъ умъ потерялъ, а вотъ этотъ въ ересь впалъ. О, бѣда! отъ чего бѣсы бѣгаютъ и исчезаютъ, чѣмъ еретики обличаются, а нѣкоторые даже исправляются, это оружіе они отнимаютъ, и это врачевство смертоноснымъ ядомъ называютъ!…. Господи, Христе Боже нашъ! отвори намъ мысленныя очи и избави насъ отъ такихъ!»
Въ трехъ верстахъ отъ Ковля, близь селенія Вербки, лежитъ островъ, образуемый разлитіемъ р. Туріи. На этомъ островѣ построенъ былъ во времена Курбскаго монастырь Св. Троицы, въ которомъ Курбскій завѣщалъ похоронить себя и вѣроятно былъ похороненъ. Въ единственной церкви, уцѣлѣвшей отъ монастыря, есть нѣсколько могилъ.
Грозная личность Іоанна, въ теченіе цѣлой половины XVI в. обращавшая на себя вниманіе современниковъ, не могла не найдти себѣ отголоска и въ народной памяти. Въ народной эпической поэзіи нашей, вслѣдъ за темными пѣснями о богатыряхъ и татарахъ, вслѣдъ за немногими такъ называемыми «к_н_я_ж_е_с_к_и_м_и» пѣснями, принадлежащими новому московскому періоду, является весьма замѣчательный и довольно обширный кругъ пѣсенъ объ Іоаннѣ Грозномъ. Пѣсни эти въ высшей степени любопытны и поучительны для насъ въ томъ отношеніи, что въ нихъ образъ Грознаго является намъ довольно сочувственно набросаннымъ народною фантазіей. Онъ представляется вѣрнымъ исторической дѣйствительности, но, въ то же время, вниманіе народа сосредоточивается преимущественно на такихъ чертахъ его личности, на такихъ сторонахъ его дѣятельности правительственной, которыя не могли не нравиться народу и до нѣкоторой степени соотвѣтствовали тѣмъ понятіямъ о правителѣ, какія сложились въ представленіи народа подъ вліяніемъ современныхъ условій народной жизни. Чѣмъ болѣе могущества сосредоточивалось въ рукахъ князей московскихъ, чѣмъ болѣе увеличивалась централизація власти и политической жизни русской въ Москвѣ — тѣмъ болѣе приходилось народу страдать отъ различныхъ общественныхъ нестроеній и отъ угнетенія со стороны мелкихъ мѣстныхъ представителей власти и произвола боярства, составлявшаго блестящій дворъ царей московскихъ. Блескъ, окружавшій личность царя, побуждалъ фантазію его къ созданію самыхъ невѣрныхъ и, притомъ, чисто-идеальныхъ представленій о власти царя, о его личныхъ свойствахъ и бытѣ. Желая, весьма естественно, утѣшить себя среди бѣдственнаго своего существованія, народъ, чувствуя на себѣ гнетъ только мѣстныхъ и мелкихъ представителей власти, гнетъ боярства, часто склоненъ былъ думать, что эти мелкіе представители власти, это боярство — ничего не имѣютъ общаго съ властью царскою и благими намѣреніями царя, котораго народъ постоянно представлялъ себѣ расположеннымъ въ его пользу, заботящимся о его нуждахъ. Вотъ почему, каждая гроза, обрушавшаяся со стороны царя на голову вельможъ и боярства, находила себѣ сочувственный отголосокъ въ народной массѣ; вотъ почему и самая личность «вольнаго царя Ивана Васильевича», казнившаго вельможъ и князей, выводившаго измѣну въ Москвѣ бѣлокаменной, нашла себѣ сочувствіе въ массѣ народа и заняла видное мѣсто въ произведеніяхъ народнаго творчества. Рисуя Іоанна не только безразсудно вспыльчивымъ и горячимъ, но даже грознымъ и жестокимъ, народныя пѣсни все же не называютъ его «немилостивымъ» и даже восхваляютъ его, потому что народъ съ замѣтнымъ сочувствіемъ относился къ тому укрощенію боярскаго самовластія, которое являлось въ его глазахъ важнымъ подвигомъ царя на пользу собственно народнаго благоденствія. Исходя изъ этого воззрѣнія на личность Іоанна Грознаго, народъ представляетъ его и вообще сочувствующимъ всему народному, русскому; сочувствіе это особенно легко высказывается въ былинѣ о царскомъ шуринѣ «Мастрюкѣ Темрюковичѣ», гдѣ царь Иванъ Васильевичъ похваляетъ русскихъ борцовъ-молодцовъ за то, что они изувѣчили и побороли его шурина Мастрюка-татарина, не смотря на то, что его же, царева, жена, Марья Темрюковна, горько жалуется на это и сокрушается о своемъ миломъ братѣ. Еще ярче личность Іоанна, какъ правителя «грознаго, но справедливаго», высказывается въ превосходной былинѣ, извѣстной подъ названіемъ «Никитѣ Романовичу дано село Преображенское», которую мы, вмѣстѣ съ предъидущею, приводимъ въ приложеніи къ этой главѣ. Сочувственно настроенное творчество народное не забываетъ и объ остальныхъ крупныхъ чертахъ личности Іоанна, какъ царя и правителя: — его завоеванія также воспѣты въ видѣ отдѣльныхъ пѣсенъ и прославлены на намять потомству. Взятіе Казани и Астрахани, какъ символы окончательнаго торжества русскаго оружія надъ татарами, а впослѣдствіи случайное завоеваніе отдаленной, полубаснословной Сибири, связанное съ любимымъ именемъ разбойничьяго удальца-атамана Ермака Тимофѣевича — всѣ эти воспоминанія, особымъ своимъ поэтическимъ колоритомъ и яркими красками необычайности, героизма, много способствовали къ значительному возвышенію личности Грознаго надъ всѣмъ предшествующимъ періодомъ историческимъ, много способствовали тому, чтобъ этотъ предшествующій періодъ еще болѣе стерся, изгладился въ памяти народной, помраченный блескомъ эпохи Грознаго. Личность его, впослѣдствіи, изъ области пѣсенъ, перешла даже и въ сказку народную, которая рисуетъ Грознаго чисто народнымъ героемъ, въ родѣ восточнаго Гарунъ-Аль-Рашида; онъ бродитъ, незамѣченный, между народомъ, присматривается къ его нуждамъ, караетъ бояръ за несправедливости и награждаетъ своими царскими милостями тѣхъ, которымъ удается перехитрить или одурачить боярина. Въ числѣ такого рода произведеній очень видное мѣсто занимаетъ извѣстная сказка о «Горшенѣ» 1), въ которой разсказывается, какъ встрѣтилъ «осударь Иванъ Васильевичъ горшеню», какъ полюбились «осударю» умные отвѣты «горшени», и какъ, потому самому, желая наградить «горшеню», осударь приказалъ ему черезъ двѣ недѣли представить ко двору своему десять возовъ глиняныхъ тарелочекъ извѣстнаго фасона. Горшеня принялъ заказъ, а осударь приказалъ, вернувшись въ городъ, чтобы на всѣхъ угощеніяхъ не было посуды ни серебряной, ни мѣдной, ни оловянной, ни деревянной, а была бы вся глиняная. Въ разговорѣ съ Иваномъ Васильевичемъ горшеня, между прочимъ, говорилъ ему, что живетъ своимъ ремесломъ не худо, и что только три худа и есть на свѣтѣ: — худой сосѣдъ, худая жена, да худой разумъ; и послѣднее-то худо всѣхъ хуже потому, что худой разумъ все съ тобою, и отъ него никуда не уйдешь. Эту мысль свою горшеня и доказалъ царю-осударю блистательнымъ образомъ, когда, привезя въ городъ заказанный Иваномъ Васильевичемъ товаръ, онъ, по настоятельной просьбѣ одного боярина, продалъ товаръ свой этому боярину на такомъ условіи, при которомъ всѣ деньги боярина перешли въ карманъ горшени, а товару все еще много осталось незакупленнаго бояриномъ. Бояринъ сталъ въ тупикъ, а горшеня и говоритъ ему: «свези меня на себѣ до этого двора, отдамъ тебѣ и товаръ, и всѣ деньги». Бояринъ мялся, мялся — жаль и денегъ, жаль и себя; но дѣлать нечего — на томъ и поладили. Выпрягли лошадь — сѣлъ мужикъ, повезъ бояринъ. Горшеня запѣлъ пѣсню, а бояринъ везетъ да везетъ. «До коихъ же мѣстъ везти тебя?» спрашиваетъ онъ горшеню. — Вотъ до этого дома". Весело поетъ горшеня, и противъ того дома высоко голосомъ поднялъ. Услыхалъ государь пѣсню, вышелъ на крыльцо и призналъ горшеню: «здравствуй», говоритъ, «горшенюшка! съ пріѣздомъ!» — «Благодарю, ваше царское величество». — «Да на чемъ ты ѣдешь?» — «А на худомъ-то разумѣ, осударь». — «Ну, горшеня! умѣлъ товаръ продать; а ты, бояринъ, не съумѣдъ боярствомъ владѣть: — скидавай свою строевую одежду и сапоги, и отдай все горшенѣ; а ты, горшеня, скидавай кафтанъ и лапти. Обувай-ка ты ихъ, бояринъ; а ты, горшеня, надѣнь и носи его строевую одежду. Умѣлъ ты товаръ продать! И немного послужилъ, да много услужилъ!»
1) Горшеня — то же, что горшечникъ, т. е. занимающійся гончарнымъ ремесломъ.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ,
правитьНикитѣ Романовичу дано се.ю Преображенское.
править(Пѣсня начинается съ того, что царь, на пиру, похваляется передъ боярами, какъ онъ вывелъ измѣну изъ Кіева и Новгорода, изъ Казани и Астрахани. Сынъ его, Ѳеодоръ Ивановичъ, говоритъ ему, что онъ не съумѣдъ однакоже вывести измѣны изъ каменной Москвы. Царь проситъ его указать измѣнниковъ; Ѳеодоръ Ивановичъ указываетъ на царскихъ любимцевъ — бояръ Годуновыхъ. Царь, въ гнѣвѣ, приказываетъ его схватить и вести на плаху.)
А всѣ палачи испужалися,
Что всѣ въ Москвѣ разбѣжалися;
Единъ палачъ не пужается.
Единъ здодѣй выступается,
Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ.
Хватилъ онъ царевича за бѣлы ручки,
Повелъ царевича за Москву рѣку.
Перепахнула вѣстка не радошна
Въ то во село въ Романовское,
Въ Романовское, въ боярское,
Ко старому Никитѣ Романовичу,
Нерадошна вѣстка, кручинная:
«А и гой еси, сударь, мой дядюшка!
Ты старой Никита Романовичъ!
Али спишь, лежишь, опочивъ держишь?
Али тѣ, Никитѣ, мало можется?
Надъ собою ты невзгоды не вѣдаешь:
Упала звѣзда поднебесная,
Потухла въ соборѣ свѣча мѣстная,
Не стало царевича у насъ въ Москвѣ,
А меньшаго Ѳеодора Ивановича».
Много Никита не выспрашиваетъ,
А скоро метался на широкій дворъ,
Скричалъ онъ, Никита, зычнымъ голосомъ:
«А и конюхи мои, приспѣшники!
Ведите поскорѣе добра коня,
Не сѣдланнаго, не узданнаго».
Скоро-де конюхи металися,
Подводятъ на скорѣ добра коня.
Садился Никита на добра коня,
За себя онъ, Никита, любимаго конюха хватилъ,
Поскакалъ за матушку Москву за рѣку,
А и шапкой машетъ, головой качаетъ,
Кричитъ онъ, зоветъ зычнымъ голосомъ:
«Народъ православный, не убейтеся,
Дайте дорогу мнѣ широкую».
Настигъ палача онъ во полупути,
Не дошедъ до болота поганаго,
Кричитъ на него зычнымъ голосомъ:
«Малюта-палачъ, сынъ Скурлатовичъ!
Не за свойскій кусъ ты хватаешься,
А этимъ кусомъ ты подавишься;
Не переводи ты роды царскіе».
Говоритъ Малюта немилостивый палачъ:
«Ты гой еси, Никита Романовичъ!
А наше-то дѣло повелѣнное;
Али палачу мнѣ самому быть сказнену?
А чѣмъ окровенить саблю острую?
А чѣмъ окровенить руки бѣлыя?
А съ чѣмъ придтить къ царю предъ очи,
Нредъ его очи царскія?»
Отвѣчаетъ Никита Романовичъ:
«Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ!
Сказни ты любимаго конюха моего,
Окровени саблю острую,
Замарай въ крови руки бѣлыя;
А съ тѣмъ поди къ царю предъ очи,
Предъ его очи царскія».
А много палачъ не выспрашиваетъ,
Сказнилъ любимаго конюха,
Окровенилъ саблю острую,
Замаралъ руки бѣлыя,
А прямо пошелъ къ царю предъ очи,
Подмастерье его голову хватилъ.
А грозный царь Иванъ Васильевичъ,
Завидѣвши сабельку острую,
А остру саблю, кровавую,
Того палача немилостива, —
А гдѣ-ко стоялъ онъ и туто упадъ;
Что рѣзвы ноги подломилися,
Что царски очи замутилися,
Что по три дня не пьетъ, не ѣстъ. —
А старой Никита Романовичъ,
Хватя онъ царевича,
На добра коня посадилъ;
Увезъ въ село свое Романовское,
Въ Романовское и боярское.
Не пива ему варить, не вина курить.
А пиръ пошелъ у нихъ на радостяхъ;
А въ трубы трубятъ по ратному,
Барабаны бьютъ по воинскому…
А у той церкви соборныя
Собирались попы и дьяконы,
А всѣ вѣдь причетники церковные,
Отпѣвали любимаго конюха.
А втѣпоры пригодился царь,
А грозный царь, Иванъ Васильевичъ,
А трижды землю на могилу бросилъ;
Съ печали царь по царству пошелъ,
По тѣмъ широкимъ по улицамъ.
А тѣ бояра Годуновые
Идутъ съ царемъ, сами подмолвилися:
— «Ты, грозный царь, Иванъ Васильевичъ!
У тебя кручина несносная —
У боярина пиръ на веселѣ,
У стараго Никиты Романовича».
А грозный царь, онъ и крутъ добрѣ,
Послалъ посла немилостиваго,
Что взять его, Никиту, не честно къ нему.
Пришелъ посолъ къ боярину въ домъ,
Взялъ Никиту, нечестно повелъ,
Привелъ ко царю предъ ясны очи;
Не дошедъ Никита поклоняется
О праву руку до сырой земли,
А грозный царь, Иванъ Васильевичъ,
Во правой рукѣ держитъ царской костыль,
А въ лѣвой держитъ царево жезло,
— По нашему сибирскому остро копье —
А и ткнетъ онъ Никиту въ праву ногу
Пришилъ его ко сырой землѣ;
А самъ онъ царь приговариваетъ:
«Велю я Никиту въ котлѣ сварить,
Въ котлѣ сварить, либо на колъ посадить,
На колъ посадить, скоро велю сказнить;
У меня кручина несносная,
А у тебя, боярина, пиръ на веселѣ.
Къ чему ты, Никита, въ домѣ добрѣ радошенъ?
Али ты, Никита, какой городъ взялъ?
Али ты, Никита, корысть получилъ?»
Говоритъ онъ, Никита, не съ упадкою:
«Ты грозный царь, Иванъ Васильевичъ!
Не вели меня казнить, прикажи говорить:
А для того у меня пиръ на веселѣ,
Въ трубочки трубятъ по ратному,
Въ барабаны бьютъ по воинскому,
Утѣшаютъ млада царевича,
Что меньшаго Ѳеодора Ивановича».
А много царь не выспрашиваетъ,
Хватя Никиту за праву руку
Пошелъ въ палаты во боярскія.
Поднебесна звѣзда ужъ высоко взошла,
Въ соборѣ мѣстна свѣча затеплялася. —
Увидѣлъ царевича въ большомъ мѣстѣ,
Въ большомъ мѣстѣ, въ переднемъ углу,
Подъ мѣстными иконами;
Беретъ онъ царевича за бѣлы ручки,
А грозный царь Иванъ Васильевичъ
Цѣловалъ его во уста сахарныя;
Скричалъ онъ, царь, зычнымъ голосомъ:
«А чѣмъ боярина пожаловати,
А стараго Никиту Романовича?
А погребъ тебѣ злата, серебра,
Второе тебѣ — питья разнаго;
А сверхъ того грамота тарханная:
Кто цареву казну покрадетъ, мужика-ли убьетъ,
А кто у жива мужа жену уведетъ
И уйдетъ въ село во боярское
Ко старому Никитѣ Романовичу —
И тамъ быть имъ не въ выдачѣ».
А было это село боярское,
Что стало село Преображенское,
По той по грамотѣ тарханныя;
Отъ нынѣ оно слыветъ и до вѣку.
Мастрюкъ Темрюковичъ.
правитьВъ годы прежніе, времена первоначальныя,
При бывшемъ вольномъ царѣ, при Иванѣ Васильевичѣ,
Когда холостъ былъ государь, царь Иванъ Васильевичъ,
Поволилъ онъ женитися:
Беретъ онъ, царь государь, не у себя въ каменной Москвѣ,
А беретъ онъ въ той Золотой ордѣ,
У того Темрюка царя, у Темрюка Степановича,
Онъ Марью Темрюковну, сестру Мастрюкову,
И взялъ въ провожатые за ней триста татариновъ,
Четыреста бухариновъ, пять сотъ черкашениновъ,
И любимаго шурина Мастрюка Темрюковича,
Молодаго черкашенина.
Онъ здравствуетъ, царь государь, у себя въ каменной Москвѣ,
И всѣ ли князья, бояра, могучіе богатыри
И гости званые, пять сотъ донскихъ казаковъ
Пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются,
Зелено вино кушаютъ,
Бѣлу лебедь рушаютъ;
А единъ не пьетъ да не ѣстъ царской гость дорогой,
Мастрюкъ Темрюковичъ, молодой черкашенинъ.
И зачѣмъ хлѣба-соли не ѣстъ, зелена вина не кушаетъ,
Бѣлу лебедь не рушаетъ? — У себя на умѣ держитъ:
Изошелъ онъ семь городовъ, поборолъ онъ 70 борцовъ —
И по себѣ борца не нашелъ, —
И только онъ думаетъ — ему вѣра поборотися есть
У царя въ каменной Москвѣ,
Хочетъ царя потѣшити
Со царицею благовѣрною, Марьею Темрюковною;
Онъ хочетъ Москву загонять, сильно царство московское.
Никита Романовичъ о томъ царю доложилъ,
Царю Ивану Васильевичу:
«А и гой еси, царь-государь, царь Иванъ Васильевичъ!
Всѣ князи, бояра, могучіе богатыри
Пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются
На великихъ на радостяхъ,
Одинъ не пьетъ, не ѣстъ твой царскій гость дорогой,
Мастрюкъ Темрюковичъ, молодой черкашенинъ,
У себя онъ на умѣ держитъ — вѣра поборотися есть,
Твое царское величество потѣшити со царицею благовѣрною».
Говоритъ тутъ царь государь, царь Иванъ Васильевичъ:
«Ты садися, Никита Ромасовичъ, на добра коня,
Побѣги ты по всей Москвѣ,
По широкимъ улицамъ и по частымъ переулочкамъ».
Онъ будетъ, дядюшка, Никита Романовичъ,
Середь Юрья Повольскаго, слободы Александровы;
Два братца родимые по бору похаживаютъ,
Объ ручку-то дядюшкѣ челомъ:
— «А и гой еси ты, дядюшка, Никита Романовичъ,
Кого ты спрашиваешь? Мы борцы въ Москвѣ похваленые,
Молодцы поученые, славные».
Никита Романовичъ привелъ борцовъ ко дворцу.
Послышалъ Мастрюкъ борцовъ, скачетъ прямо Мастрюкъ
Изъ мѣста большого, изъ угла передняго,
Черезъ столы дубовые, черезъ яства сахарныя,
Лѣвой ногой задѣлъ за столы бѣлодубовые,
Повалилъ онъ тридцать столовъ,
Да прибилъ триста гостей:
Живы да негодны, на корачкахъ ползаютъ по палатѣ бѣлокаменной:
То похвальбы Мастрюку, Мастрюку Темрюковичу.
Выбѣжалъ тутъ Мастрюкъ на крылечко красное,
Кричитъ во всю голову, чтобы слышалъ царь-государь:
«А свѣтъ ты, вольной царь, царь Иванъ Васильевичъ!
Что у тебя въ Москвѣ за похвальные молодцы поученые, славные!
На ладонь ихъ посажу, другой рукой раздавлю».
Съ борцами сходится Мастрюкъ Темрюковичъ:
А и малой выступается, Мишка Борисовичъ,
И смотрятъ ихъ борьбу князи, бояра и могучіе богатыри,
Пятьсотъ донскихъ казаковъ.
А и Миша Борисовичъ съ носка бросилъ о землю
Онъ царскаго шурина;
Похвалилъ его царь-государь:
«Исполать тебѣ, молодцу, что чисто борешься!» —
А и Мишка къ сторонѣ пошелъ, ему полно боротися.
А Потанька бороться пошелъ, костылемъ подпирается.
Самъ впередъ подвигается, къ Мастрюку приближается;
Смотритъ царь-государь, что кому будетъ Божья помочь,
И смотрятъ ихъ борьбу князи, бояра и могучіе богатыри,
Пятьсотъ донскихъ казаковъ.
Потанька справился, за плеча сграбился,
Согнетъ корчагою, воздыметъ выше головы своей,
Опустилъ о сыру землю — Мастрюкъ безъ памяти лежитъ;
Не слыхалъ какъ и платье сняли, —
Былъ Мастрюкъ во всемъ, сталъ Мастрюкъ ни въ чемъ:
Со стыда и сорома на корачкахъ подъ крылецъ ползетъ.
Какъ бы бѣлая лебедушка на зорѣ она прокликала,
Говорила царица царю, Марья Темрюковна:
«Свѣтъ ты, вольной царь, царь Иванъ Васильевичъ!
Такова-ль у тебя честь добра до любимаго шурина,
А дѣтина поругается, что дѣтина деревенской, —
Почто онъ платье снимаетъ?»
Говоритъ тутъ царь-государь:
«Гой еси ты, царица въ Москвѣ,
Да ты Марья Темрюковна!
А не то у меня честь въ Москвѣ, что татары-те борются;
То-те честь въ Москвѣ, что русакъ тѣшится, —
Хотя бы ему голову сломилъ, да любилъ бы я, пожаловалъ
Двухъ братцевъ родимыхъ, двухъ удалыхъ Борисовичей!»


XV.
правитьЗарожденіе новаго образованія на юго-западѣ Руси въ III в. — Важное значеніе кіевскихъ ученыхъ въ исторій нашего просвѣщенія и литературы. — Успѣхи образованности въ XVII в.: школы и учебники.
правитьБольшая часть сѣверо-восточной Руси еще продолжала коснѣть въ глубокомъ мракѣ невѣжества и всѣ условія внутренняго быта въ Москвѣ и во всемъ государствѣ московскомъ продолжали быть крайне неблагопріятными для воспринятія и распространенія образованности; лучшіе и просвѣщеннѣншіе люди русскіе болѣе, чѣмъ когда-либо, начинали сознавать, что невѣжество губитъ лучшія силы народа и лежитъ въ основѣ всей нравственной, политической и экономической неурядицы, подавляющей Русь: — а между тѣмъ на юго-западной и западной окраинѣ Россіи уже загорался тотъ свѣтъ новаго просвѣщенія, которому впослѣдствіи, хоть и не скоро, однакоже суждено было столь благодѣтельно отразиться и на отдаленномъ сѣверо-востокѣ Руси. Мы видѣли, что одинъ изъ учениковъ Максима Грека, ревностный послѣдователь его идей и страсти къ просвѣщенію, къ наукѣ — князь А. М. Курбскій, нашелъ въ современной Іоанну Грозному Литвѣ такой уровень образованности общественной, при которомъ ему не трудно было найти и средства къ занятіямъ научнымъ, и даже людей, которые способны были его въ нихъ руководить, способны были оцѣнивать труды его — поощрять его къ развитію и продолженію избранной имъ полезной дѣятельности. Рядомъ съ Курбскимъ видимъ мы въ той же мѣстности другого сильнаго и ревностнаго покровителя просвѣщенія, также русскаго вельможу — князя Константина Острожскаго, у котораго находятъ себѣ пріютъ первые наши печатники, вынужденные клеветою и невѣжествомъ къ бѣгству изъ Москвы. Около этихъ двоихъ замѣчательныхъ любителей и ревнителей просвѣщенія — около князей Курбскаго и Острожскаго — видимъ цѣлый рядъ другихъ менѣе крупныхъ, но не менѣе просвѣщенныхъ дѣятелей, русскихъ сердцемъ и душою, горячо преданныхъ идеѣ о необходимости распространенія просвѣщенія въ массѣ соплеменнаго имъ русскаго населенія Литвы и Польши. Всѣ эти менѣе крупные дѣятели, точно также, какъ и стоявшіе во главѣ ихъ вельможи, были представителями весьма сильнаго общественнаго движенія, которое проявилось на западной окраинѣ Руси гораздо ранѣе временъ Курбскаго и князя Константина Острожскаго: — начало этого движенія, развивавшагося подъ вліяніемъ польскаго владычества и нѣкоторыхъ особыхъ мѣстныхъ условій, слѣдуетъ искать еще въ XV вѣкѣ. Притомъ же, если бы движеніе это, выражавшееся стремленіемъ къ распространенію образованія въ народѣ, исходило бы только сверху, находило бы себѣ выразителей и дѣятелей только въ средѣ мѣстнаго и высшаго сословія русскихъ вельможъ, то едва ли бы можно было ожидать отъ него особенной живучести и замѣчательныхъ результатовъ въ будущемъ. Русскіе представители высшаго сословія въ западномъ краѣ, подъ вліяніемъ окружавшей ихъ польской среды іезуитизма, очень быстро утрачивали всякую самостоятельность, ополячивались и, отступая отъ вѣры отцовъ своихъ, отрекаясь отъ всѣхъ преданій родной страны, оставляли въ то же время и всякія заботы о народномъ дѣлѣ, становились вполнѣ безучастны и къ матерьяльнымъ, и къ духовно-нравственнымъ нуждамъ своихъ соотечественниковъ въ Литвѣ и Польшѣ. Существенно-важною стороною вышеупомянутаго нами общественнаго движенія, начавшагося на западной окраинѣ Руси еще въ XV вѣкѣ, является именно то, что движеніе это было вполнѣ народнымъ, исходило изъ потребностей массы, поддерживалось ея сознаніемъ и средствами, и только уже въ крайнемъ своемъ развитіи находило себѣ сочувственный отголосокъ и поддержку въ высшихъ слояхъ населенія русскихъ областей Литвы и Польши. Въ основѣ этого народнаго движенія лежали, несомнѣнно, два могущественныя стремленія, развившіяся подъ гнетомъ чуждаго владычества и постоянно усиливавшейся католической пропаганды: — стремленіе къ охраненію своей національности и стремленіе къ охраненію православія. И то, и другое, въ XV вѣкѣ, сказывалось еще очень глухо, и выражалось только тѣмъ, что въ русскомъ населеніи западной окраины проявилось желаніе сплотиться въ тѣсные кружки, въ небольшіе центры, которые бы могли служить точкою опоры нравственной, могли бы способствовать поддержкѣ извѣстныхъ началъ въ средѣ населенія, которое начинало сознавать свою одинокость и безпомощность среди чуждыхъ ему началъ общественнаго и религіознаго быта Литвы и Полыпи. Пока эти небольшіе кружки — эти православныя братства, въ которыя сплотилось русское населеніе западной окраины около естественныхъ центровъ своихъ, приходскихъ церквей — руководились въ сближеніи своемъ только сознаніемъ своего одиночества и отдѣльности, самая дѣятельность ихъ являлась весьма ограниченною, почти исключительно филантропическою. Дѣла любви и милосердія, взаимная помощь, которую обязывались подавать другъ другу члены отдѣльныхъ братствъ — вотъ что составляло, повидимому, главную сущность ихъ дѣйствій, главную основу ихъ единенія. Такого рода православныя братства видимъ мы съ первой половины XV вѣка во Львовѣ, Вильнѣ, а за тѣмъ въ Кіевѣ, Могилевѣ, Луцкѣ и Брестѣ. Но, по мѣрѣ того, какъ преобладаніе іезуитизма начинаетъ проявляться въ развитіи нетерпимости католиковъ по отношенію къ православнымъ, по мѣрѣ того, какъ православное населеніе начинаетъ переходить отъ пассивнаго сознанія своей отдѣльности къ дѣятельному сознанію необходимости отстаивать и защищать свою религіозную и національную не-зависимость отъ покушеній католичества — мы видимъ, что не только кругъ дѣятельности братствъ расширяется, но даже значительно измѣняются самыя цѣли и стремленія этихъ братствъ. Послѣ того, какъ они съ внѣшней, формальной стороны получили окончательное устройство, въ концѣ XVI в. (въ 1588 г.), и въ особенности тогда, какъ въ 1596 году торжественно была провозглашена унія, а за этимъ провозглашеніемъ послѣдовалъ нескончаемый рядъ соблазновъ, насилій и бѣдствій для православной части населенія западной окраины Руси — братства совершенно измѣняютъ свой видъ и пріобрѣтаютъ важное значеніе. Эти филантропическіе кружки, между прочими дѣлами «любви и милосердія», обращавшіе вниманіе и на распространеніе грамотности въ массѣ народа, начинаютъ, съ конца XVI столѣтія, обращать вниманіе на возвышеніе уровня грамотности въ народѣ до весьма значительной степени; съ этой поры братства почти исключительно посвящаютъ всѣ нравственныя и матерьяльныя средства свои на распространеніе образованности между своими единовѣрцами, такъ какъ только въ образованности начинаютъ они видѣть спасеніе для своей вѣры и народности отъ козней іезуитизма. Приходскія шкоды, въ которыхъ православные обучались прежде только чтенію и письму, оказываются уже недостаточными; съ конца XVI вѣка, въ кругъ преподаванія въ тѣхъ школахъ вводится разомъ множество предметовъ, которые признаются, подъ вліяніемъ мѣстныхъ историческихъ условій, необходимыми элементами образованности: — въ школахъ начинаютъ обучать языку греческому, славянскому, русскому, латинскому и польскому, грамматикѣ, риторикѣ, піитикѣ, діалектикѣ, богословію и многимъ другимъ наукамъ. Первое изъ этихъ новыхъ высшихъ православныхъ училищъ заводитъ у себя въ Острогѣ князь Константинъ Острожскій (въ 1580 г.), и вскорѣ послѣ того, такія же точно училища являются почти одновременно во Львовѣ, Вильнѣ, Брестѣ, Минскѣ, Могилевѣ и Кіевѣ. Замѣтно, что одна общая идея, подъ давленіемъ безотлагательныхъ, тягостныхъ условій исторической необходимости, охватила разомъ всѣ, подвластныя Литвѣ и Польшѣ, западно-русскія области, и потому всюду, гдѣ были братства, явились и высшія образовательныя заведенія. Но этого мало: — движеніе, вызванное въ массѣ религіозными преслѣдованіями, 'было на столько сильно, что не могло уже остановиться только на мѣрахъ оборонительныхъ, на распространеніи образованности, какъ средства противостоять успѣхамъ іезуитства. Быстро принявшееся на доброй почвѣ образованіе повело къ дальнѣйшему развитію того же самаго движенія, и проявилось вскорѣ въ желаніи бороться, полемизировать съ враждебными православію и народности элементами. Это желаніе побудило многія братства къ заведенію своихъ собственныхъ типографій, и въ то время, когда безсмертное изобрѣтеніе Гуттенберга еще возбуждало самые кривые толки и даже суевѣрныя сомнѣнія въ главномъ центрѣ русской жизни политической, въ Москвѣ — типографскій станокъ уже приносилъ величайшую пользу русскому населенію на западной, польско-литовской окраинѣ, служа поддержкою наиболѣе жизненнымъ элементамъ въ средѣ угнетаемыхъ Польшею русскихъ подданныхъ — поддержкою религіи и народности.
Вслѣдствіе чисто-случайныхъ обстоятельствъ и частныхъ усилій одного изъ ревностнѣйшихъ дѣятелей на пользу распространенія просвѣщенія въ юго-западной Руси, древнѣйшему центру русской образованности, Кіеву, еще разъ пришлось играть весьма важную роль въ исторіи просвѣщенія Россіи. Кіевское братство, около 1589 года, учредило, при церкви Богоявленія, одно изъ тѣхъ высшихъ образовательныхъ училищъ, о которыхъ мы упоминали выше. Училище это, съ 1594 года, получаетъ наименованіе школы «э_л_л_и_н_о-с_л_а_в_я_н_с_к_а_г_о и л_а_т_и_н_о-п_о_л_ь_с_к_а_г_о п_и_с_ь_м_а».
Школѣ этой, по всѣмъ вѣроятіямъ, предстояла довольно незавидная будущность, если бы судьба не послала ей весьма замѣчательнаго и образованнаго покровителя въ лицѣ П_е_т_р_а М_о_г_и_л_ы (р. 1597 г., ум. 1646 г.), сына молдавскаго воеводы, который въ 1625 г. поступилъ въ монахи Кіево-печерской лавры. До своего поступленія въ монахи, Петръ Могила, не смотря на свою молодость, успѣлъ уже многое испытать и видѣть. Обладая обширными средствами матерьяльными, онъ воспитался за границею и получилъ, въ Парижѣ, блестящее, по тому времени, образованіе. Затѣмъ онъ поселился въ Польшѣ, служилъ даже въ военной службѣ и, проникнувшись особеннымъ сочувствіемъ къ бѣдствіямъ своихъ единовѣрцевъ, онъ рѣшился посвятить и богатство свое, и дѣятельность всей своей жизни на распространеніе между ними образованности, въ которой видѣлъ единственный путь къ спасенію ихъ, наравнѣ съ просвѣщеннѣйшими изъ числа современниковъ своихъ. Съ 1628 года, когда Петръ Могила сдѣланъ былъ архимандритомъ лавры, наступаетъ новая и важная эпоха въ исторіи русскаго образованія. Петръ Могила начинаетъ съ того, что отправляетъ на свой счетъ за границу нѣсколько иноковъ и мірянъ для окончанія образованія и приготовленія къ преподавательской дѣятельности; за тѣмъ, по возвращеніи этихъ молодыхъ людей изъ-за границы, Петръ Могила приступаетъ къ устроенію въ Кіевѣ такой же точно коллегіи, какія уже были устроены іезуитами, на подобіе заграничныхъ коллегій, въ Польшѣ. Первоначально думалъ было онъ открыть свою коллегію въ самой Кіево-печерской лаврѣ, этой колыбели русскаго просвѣщенія, но братство кіевское упросило его не заводить новаго училища, не разъединять силъ общины русской, а скорѣе расширить размѣры и кругъ дѣятельности давно уже существовавшаго въ Кіевѣ братства Богоявленскаго училища. Петръ Могила согласился на это, и съ 1631 года братское училище преобразовано было въ «Кіево-Могилянскую коллегію». Усердный ревнитель просвѣщенія выстроилъ на свои средства новое помѣщеніе для классовъ коллегіи, пожертвовалъ богатыя вотчины на содержаніе коллегіи и поддержку бѣднѣйшихъ учениковъ, завелъ при коллегіи библіотеку учебныхъ пособій, и, заботясь постоянно о возвышеніи того уровня свѣдѣній, какой могла давать коллегія ученикамъ своимъ, рѣшился даже завести и другое, низшее, приготовительное къ коллегіи училище въ Винницѣ. Недовольствуясъ этимъ и не переставая въ теченіе всей своей жизни заботиться о тщательномъ выполненіи своей задачи, Петръ Могила еще и всѣ досуги свои посвящалъ на составленіе учебниковъ и пособій для своей коллегіи и на такія литературныя произведенія, которыя, по современнымъ педагогическимъ понятіямъ, должны были значительно способствовать развитію и совершенствованью учащейся молодежи. Но объ этихъ трудахъ П. Могилы намъ еще придется мимоходомъ упомянуть въ одной изъ послѣдующихъ главъ; въ настоящую же минуту мы должны представить краткій очеркъ той образованности, какую вносила къ намъ въ Русь «Кіево-Могилянская коллегія» и всѣ подобныя высшія образовательныя заведенія, возникшія въ юго-западномъ краѣ съ начала XVII вѣка. Мы тѣмъ болѣе считаемъ себя обязанными обратить вниманіе на состояніе и направленіе этой новой образованности, что она не только послужила основою для образованности, распространившейся впослѣдствіи, при посредствѣ кіевскихъ ученыхъ, въ Москвѣ и остальной Руси; но и, кромѣ того, эта образованность положила на разсматриваемый нами въ настоящее время періодъ русской литературы такую рѣзкую и своеобразную печать, что этотъ періодъ могъ бы остаться для насъ совершенно непонятнымъ, если бы мы ближе не вникли въ характеръ современной образованности и въ тѣ побужденія, которыя ее породили.

Характеръ образованія въ каждомъ народѣ опредѣляется тѣми потребностями, которыми образованіе было вызвано къ существованію, а часто и тѣми условіями историческими, среди которыхъ оно зачалось. И то, и другое чрезвычайно рѣзко бросается намъ въ глаза при взглядѣ на ту западно-русскую образованность, главнымъ проводникомъ которой явилась Кіево-Могилянская коллегія, развившаяся изъ предшествовавшихъ ей высшихъ братческихъ училищъ. Въ основѣ этой образованности лежала потребность сравняться въ знаніи и силахъ умственныхъ съ враждебными русской вѣрѣ и народности іезуитами, стать на одинъ уровень съ ними, преимущественно въ свѣдѣніяхъ богословско-философскихъ, и добиться во что бы то ни стало возможности вступить съ ними въ полемику. И такъ, основнымъ побужденіемъ, первымъ толчкомъ къ распространенію образованности въ западно-русскихъ областяхъ послужила борьба религіозная; а тѣ историческія условія, среди которыхъ жила въ этихъ областяхъ русская народность, вынудили ее для этой борьбы взяться за то же оружіе, какимъ сражались противъ нея іезуиты. Другого, лучшаго образца не было подъ руками, да если бы онъ и былъ, то едва-ли бы рѣшились воспользоваться имъ, такъ какъ болѣе всего пригодною для противодѣйствія іезуитской пропагандѣ казалась именно такая образовательная почва, которая производила самое іезуитство.
Отсюда-то появляется рабское стремленіе подражать въ устройствѣ Кіевской коллегіи польскимъ іезуитскимъ коллегіямъ и обращать въ преподаваніи особенное вниманіе именно на тѣ стороны, которыя могли служить для успѣшнѣйшаго веденія борьбы противъ іезуитовъ и уніи. Вотъ почему важнѣйшее мѣсто въ преподаваніи языковъ, давалось языку латинскому, на которомъ велось преподаваніе всѣхъ наукъ въ коллегіи (кромѣ славянской грамматики и катихизиса); польскій языкъ и въ средѣ учениковъ старались вводить, какъ языкъ разговорный, даже внѣ классовъ. На томъ же основаніи, съ другой стороны, въ ряду наукъ, первое мѣсто дано было богословію, которое, точно также, какъ и философія, преподавалось подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ преобладавшаго въ іезуитскихъ коллегіяхъ схоластицизма. Схоластицизмъ получилъ свое начало именно въ тотъ періодъ среднихъ вѣковъ, когда богословскія ученія запада, при посредствѣ арабскихъ ученыхъ, впервые столкнулись съ философскими ученіями древности въ лицѣ двухъ важнѣйшихъ представителей ихъ — Платона и Аристотеля. Тогда уже зародилось стремленіе согласовать философскія воззрѣнія и теоріи этихъ двухъ знаменитыхъ представителей греческой науки съ запутанными и темными богословскими теоріями, развившимися на западѣ подъ вліяніемъ полнаго преобладанія католичества надъ всѣми остальными элементами исторической жизни романскихъ на-родовъ. Философское ученіе Аристотеля было принято и даже изучаемо богословами западными, но такъ какъ они почитали христіанскую догматику выше всѣхъ знаній человѣческихъ, то сначала рѣшились только примирить, согласовать до нѣкоторой степени идеи Аристотеля со своими религіозными воззрѣніями, а впослѣдствіи даже и окончательно подчинили философію Аристотеля преобладающему вліянію своихъ воззрѣній. Слѣдствіемъ этого было то, что собственно отъ ученія Аристотеля осталась только одна мертвая внѣшняя форма, одна только рамка, въ; которую богословы вкладывали матерьялъ своихъ собственныхъ умствованій и доказательствъ: пользуясь при этомъ способомъ доказательствъ, опредѣленія и раздѣленія, заимствованными у Аристотеля. Вслѣдствіе такого страннаго смѣшенія богословской догматики съ внѣшнею стороною выработанныхъ Аристотелемъ научныхъ теорій, и происходило то особое направленіе въ изученіи и преподаваніи наукъ, которое получило названіе с_х_о_л_а_с_т_и_ц_и_з_м_а. Подъ вліяніемъ этого направленія, планъ и форма преподаванія науки получали гораздо большее значеніе, нежели самая сущность науки; изучался не матерьялъ науки, а рядъ опредѣленныхъ формулъ, строго разграниченныхъ и подчиненныхъ извѣстнымъ распредѣленіямъ, дѣленіямъ, подраздѣленіямъ, въ тѣсной зависимости отъ которыхъ сопоставлены были и самыя доказательства научныхъ формулъ. При этомъ, конечно, общее значеніе и важнѣйшія стороны науки — положительно ускользали отъ вниманія изучающаго подъ тягостнымъ гнетомъ множества мелочей и частностей, отвлекавшихъ вниманіе и вынуждавшихъ къ заучиванію. Наставники, преподавая воспитанникамъ философію или богословіе, вовсе не заботились о томъ, чтобы они дѣйствительно знали и ясно понимали эти науки, а болѣе о томъ, чтобы они у_м_ѣ_л_и д_о_к_а_з_ы_в_а_т_ь отдѣльныя положенія, извлекаемыя изъ этихъ наукъ, или основываемыя на ихъ частностяхъ. Въ свою очередь, э_т_о у_м_ѣ_н_ь_е д_о_к_а_з_ы_в_а_т_ь старались также обратить въ особую науку и довести до извѣстной степени искусства, заранѣе приготовляя научный матерьялъ такимъ образомъ, чтобы д_о_к_а_з_ы_в_а_ю_щ_і_й могъ извлекать изъ него самую разнообразную помощь, могъ бы пользоваться имъ, какъ самымъ разностороннимъ орудіемъ, обладая умѣньемъ говоритъ и з_а, и п_р_о_т_и_в_ъ извѣстнаго положенія, и какъ бы обладая, такимъ образомъ, возможностью предвидѣть всѣ возраженія, какія могутъ быть ему сдѣланы стороною противною. Все это вмѣстѣ приводило къ сильнѣйшему развитію діалектики, которая и служила постояннымъ орудіемъ для споровъ; а съ другой стороны, въ значительной степени — развивало ораторское искусство, которое старались всѣми силами вложить въ будущихъ проповѣдниковъ и духовныхъ наставниковъ, приготовляемыхъ коллегіею къ борьбѣ съ іезуитами и уніей. Для большаго усовершенствованья учениковъ въ діалектикѣ, въ высшихъ курсахъ коллегіи устроивались частные и публичные диспуты по поводу различныхъ спорныхъ догматическихъ вопросовъ, которые приходилось доказывать или опровергать на основаніи извѣстныхъ, предварительно высказанныхъ положеній (тезисовъ). Такимъ же точно образомъ для совершенствованья всѣхъ учениковъ въ ораторскомъ искусствѣ, ихъ заставляли, на основаніи извѣстныхъ правилъ и самыхъ точныхъ разграниченій и подраздѣленій предмета, сочинять рѣчи по поводу всевозможныхъ, самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ: плачевныя — по поводу погребеній, торжественныя и радостныя, заключавшія въ себѣ поздравленія или привѣтствія, благодарственныя, просительныя, и т. д. Сами наставники, въ видахъ поощренія и совершенствованья молодыхъ людей въ ораторскомъ искусствѣ, должны были говорить проповѣди по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ; для этихъ проповѣдей чаще всего избирали они толкованіе нѣкоторыхъ мѣстъ ветхаго и новаго завѣта, иди же изъясненіе труднѣйшихъ, наиболѣе темныхъ мѣстъ катихизиса.
Изъ этого краткаго обзора мы должны придти къ тому заключенію, что уровень образованія, доставляемаго Кіевскою коллегіею, — этимъ образцомъ всѣхъ высшихъ образовательныхъ заведеній юго-западной Руси въ XVII в. — вполнѣ соотвѣтствовалъ, съ одной стороны, потребностямъ времени, а съ другой — отражалъ на себѣ историческія условія, среди которыхъ образованіе это развивалось и съ которыми, сверхъ того, предстояло вступить въ борьбу всѣмъ дѣятелямъ его. Какъ бы ни казалось намъ странно и чуждо, по нашимъ современнымъ понятіямъ, схоластическое направленіе этого образованія, на сколько бы ни являлась намъ чуждой исключительная цѣль его — приготовленіе дѣятелей въ извѣстномъ и опредѣленномъ направленіи, для весьма опредѣленнаго круга дѣятельности — мы все же должны признать, что Кіево-Могилянская коллегія (съ 1707 года переименованная въ академію), а равно и тѣ высшія образовательныя училища братскія, на которыхъ она основалась, оказали русскому образованію громадныя, неоцѣнимыя услуги. Плоды этого образованія, распространяемаго братскими училищами и Кіево-Могилянской коллегіей, прежде всего проявились въ томъ, что среди населенія, угнетаемаго и притѣсняемаго со стороны политической и религіозной, вдругъ выступаетъ цѣлый рядъ дѣятелей и ими создается цѣлая литература полемическихъ и богословскихъ сочиненій, служащая надежнымъ оплотомъ противъ враждебнаго польско-іезуитскаго стремленія потоптать и уничтожить русскую народность въ западномъ краѣ. Сверхъ того, изъ той же среды, выработываются и многіе плодовитые, краснорѣчивые и искусные ораторы духовные, которые не только на мѣстѣ примѣняютъ свои ораторскіе таланты, противоборствуя іезуитской пропагандѣ, но — послѣ присоединенія Малороссіи къ Россіи — проникаютъ и въ Москву. Туда удается имъ не только занести новыя идеи и свою просвѣщенную любовь и уваженіе къ наукѣ, но и окончательно вкоренить сознаніе необходимости просвѣщенія; тамъ, наконецъ, удается имъ страшнымъ орудіемъ слова побѣдить, послѣ сильной и энергической борьбы, мракъ невѣжества и предразсудки религіознаго и общественнаго строя древней Руси, выразившіеся въ притязаніяхъ раскола. Не слѣдуетъ забывать, что, кромѣ этой двоякой борьбы, кіевскимъ ученымъ пришлось положить и первое основаніе нашей учебной литературѣ: первые учебники по различнымъ отраслямъ научнымъ создались на почвѣ русскаго юго-запада въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія, и долгое время служили единственными учебными пособіями въ тѣхъ русскихъ училищахъ, которыя наконецъ начинаютъ по-являться на Руси (въ концѣ первой половины XVII столѣтія) и даже въ томъ высшемъ образовательномъ заведеніи, которое основывается въ Москвѣ въ концѣ XVII столѣтія.
Начиная съ конца XVI в. и на пространствѣ всего XVII столѣтія, мы видимъ на юго-западѣ Руси цѣлый рядъ литературныхъ и ученыхъ дѣятелей, которые неутомимо трудятся на поприщѣ богословско-полемической литературы и непрестанно заботятся о пополненіи пробѣловъ школьно-учебной литературы. Вслѣдъ за Лаврентіемъ Зизаніемъ Тустановскимъ, издающимъ въ 1596 г. свою первую 1) славянскую грамматику и краткій славянскій лексиконъ, велѣлъ за полоцкимъ архіепископомъ, Мелетіемъ Смотрицкимъ, также посвящающимъ труды свои на пользу обработки грамматики славянской 2), на поприще учебной, полемико-догматической и ученой литературы, одинъ за другимъ выступаютъ: Кириллъ Транквилліонъ, Исаія Копинскій, Симеонъ Полоцкій, Епифаній Славинецкій, Іоанникій Галятовскій, Антоній Радивиловскій, Иннокентій Гизіель, Лазарь Барановичъ, Іоасафъ Кроковскій, Іоаннъ Максимовичъ и Дмитрій Ростовскій. Всѣ эти дѣятели получили свое, блестящее по времени, образованіе въ юго-западныхъ училищахъ и въ Кіево-Могилянской коллегіи; большая часть ихъ возвысилась впослѣдствіи до высшихъ степеней духовной іерархіи, и всѣ они, до послѣдняго, всюду вносили съ собой любовь къ просвѣщенію и наукамъ, сознаніе пользы и необходимости ученія и полезное орудіе живаго, сильнаго, энергическаго проповѣднаго слова. Нѣкоторымъ изъ числа этихъ дѣятелей, какъ напр. Епифанію Славинецкому, и въ особенности Симеону Полоцкому, принадлежитъ честь занесенія этихъ новыхъ идей въ Москву; туда кіевскіе ученые проникаютъ въ половинѣ XVII в. и тамъ, образуя около себя партію изъ просвѣщеннѣйшей части русскаго высшаго общества, тѣмъ самымъ полагаютъ первую прочную основу будущей благодѣтельной реформѣ Великаго Преобразователя Россіи.
1) До того времени извѣстна только одна грамматика «эллино-славянская», изданная (въ 1591 г.) во Львовѣ, на пользу обучавшихся греческому языку, студентами тамошняго братскаго училища.
2) Грамматика М. Смотрицкаго, перепечатанная въ Москвѣ, въ 1648 году, употреблялась, какъ руководство, во всѣхъ школахъ русскихъ, до Ломоносова.
При такой массѣ дѣятелей, проявившихся одновременно на благодатной почвѣ русскаго юго-запада, было бы, конечно, трудно представить подробный отчетъ о ихъ плодовитой и разносторонней литературно-ученой дѣятельности; мы удовольствуемся только тѣмъ, что въ краткихъ чертахъ опредѣлимъ общій характеръ всѣхъ ихъ произведеній и укажемъ на важнѣйшія особенности ихъ отдѣльныхъ родовъ.
Вся юго-западная духовная литература XVII столѣтія распадается на два преобладающія направленія: б_о_г_о_с_л_о_в_с_к_о-п_о_л_е_м_и_ч_е_с_к_о_е и и_с_т_о_р_и_к_о-д_о_г_м_а_т_и_ч_е_с_к_о_е. Какъ то, такъ и другое направленіе, подъ непосредственнымъ вліяніемъ духа времени и мѣстныхъ условій, выразились преимущественно въ чрезвычайно-обильномъ развитіи одного литературнаго рода передъ всѣми другими, а именно: д_у_х_о_в_н_а_г_о о_р_а_т_о_р_с_т_в_а. Ученикъ уже на школьной скамейкѣ пріучался владѣть орудіемъ слова, для охраненія и для защиты близкихъ ему религіозныхъ интересовъ въ ученомъ, схоластическомъ диспутѣ; въ то же время развивали въ немъ умѣнье говорить въ назиданіе и поученіе вѣрующимъ, на основаніи Св. Писанія, истолковываемаго не только въ связи съ ученіемъ отцовъ Церкви, но и въ связи съ жизнью практической, ежедневной. Необходимость и польза живаго, проповѣднаго слова была до такой степени ощущаема всѣми въ этотъ тягостный періодъ религіозной и нравственной борьбы, что при монастыряхъ и церквахъ оказалось даже необходимымъ установить особую должность п_р_о_п_о_в_ѣ_д_н_и_к_а, который исключительно посвящалъ себя устному истолкованію въ церкви Св. Писанія обсужденію и сравненію различныхъ спорныхъ пунктовъ католической и христіанской догматики, а также и назиданію паствы. Во второй половинѣ XV-й столѣтія званіе это дѣлается почетнымъ титуломъ, предметомъ гордости и соисканія для талантливѣйшихъ изъ числа молодежи, оканчивающей курсъ въ Кіевской коллегіи; и не мудрено: — города и монастыри съ одинаковымъ рвеніемъ, наперерывъ отбиваютъ другъ у друга тѣхъ проповѣдниковъ, которые уже начинаютъ пользоваться нѣкоторою почетною извѣстностью. Эта извѣстность, пріобрѣтенная на каѳедрѣ проповѣдникомъ, вполнѣ обезпечиваетъ и дальнѣйшій его жизненный путь: — мы видимъ, что большая часть лицъ, достигающихъ въ началѣ XVIII вѣка высшихъ ступеней духовной іерархіи, начинаетъ свое поприще именно съ этой почетной должности проповѣдника.
Проповѣдь, развившаяся около этого времени на русскомъ юго-западѣ, не имѣетъ почти ничего общаго съ тѣми произведеніями проповѣднаго искусства, какія мы видимъ на почвѣ нашей древне-русской духовной литературы до XVI вѣка. Только одинъ изъ нашихъ писателей XII вѣка — Кириллъ Туровскій — но духу своихъ произведеній, нѣсколько подходитъ къ той формѣ развитія, какую приняла юго-западная проповѣдь русская въ XVII столѣтіи въ средѣ кіевскихъ ученыхъ. Но къ тому богатому, часто и весьма поэтическому символизму, которымъ, какъ мы видѣли, отличалась проповѣдь Кирилла Туровскаго, обильная образами и сравненіями, въ XVII вѣкѣ примѣшивалось нѣсколько новыхъ элементовъ. Къ числу этихъ элементовъ, конечно, слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, риторическую правильность и симметрію, съ какой проповѣдникъ старался расположить всѣ части своего произведенія; во-вторыхъ — стремленіе не ограничиваться только кругомъ чисто-религіозныхъ положеній и доказательствъ, на основаніи котораго проповѣдникъ и позволялъ себѣ почерпать истолкованія истинъ религіозныхъ и догматическихъ изъ всѣхъ отраслей наукъ, изъ всѣхъ явленій природы, даже изъ явленій и примѣровъ, представляемыхъ частною жизнью, на сколько она отражалась въ нѣкоторыхъ нравоучительныхъ литературныхъ произведеніяхъ. Одинъ изъ наиболѣе искусныхъ современныхъ ораторовъ, Іоанникій Галятовскій, въ своемъ наставленіи проповѣдникамъ относительно того, откуда слѣдуетъ заимствовать матерьялъ для проповѣди, говоритъ: «читай библію, житія святыхъ, творенія отцовъ Церкви, исторію и хроники, книги о звѣряхъ, птицахъ, гадахъ, рыбахъ, древахъ, травахъ, каменьяхъ, водахъ. Вычитанное прилагай къ своей рѣчи; искусству приложенія научатъ проповѣдники нынѣшняго вѣка, которыхъ слѣдуетъ изучать». Эти «книги о звѣряхъ, птицахъ, гадахъ, травахъ и каменьяхъ», на которыя ссылается проповѣдникъ, представляютъ собою ничто иное, какъ тѣ же б_е_с_т_і_а_р_і_и, в_о_л_у_к_р_а_р_і_и и л_а_п_и_д_а_р_і_и, которые, какъ мы видѣли выше, рано зашли въ нашу литературу, и въ XVII в., точно также, какъ и въ XII, продолжали служить проповѣдникамъ готовымъ матерьяломъ для выбора символовъ и сравненій, служившихъ украшеніемъ ихъ рѣчей. Впрочемъ, самъ Галятовскій не пренебрегаетъ цитатами даже изъ свѣтскихъ писателей и въ одну изъ своихъ проповѣдей, при разсужденіи о темной силѣ волшебства, заноситъ даже изъ
Тассова «Освобожденнаго Іерусалима» разсказъ о волшебникѣ Исменѣ. Другой современный проповѣдникъ, Иннокентій Гизіель (архимандритъ кіево-печерскій около 1684), также указывая духовнымъ ораторамъ на свѣтскую литературу, какъ на матерьялъ для проповѣдей, говоритъ между прочимъ: «не только въ иновѣрныхъ, но въ эллинскихъ (т. е. языческихъ) ученіяхъ есть повѣсти, служащія разуму, истинныя и здравыя».
Главнымъ недостаткомъ современной проповѣди является запутанность ея изложенія, вслѣдствіе того сильнаго схоластическаго явленія, которое, какъ мы видѣли, тяготѣло надъ всею наукой, и пріучало авторовъ въ каждомъ произведеніи придавать огромное значеніе внѣшней формѣ, часто даже въ ущербъ внутреннему содержанію. Стараясь какъ можно яснѣе изложить свою мысль, авторъ или духовный ораторъ прибѣгалъ для этой цѣли къ разнымъ, чисто-внѣшнимъ средствамъ: раздѣлялъ и подраздѣлялъ матерьялъ своего произведенія на множество мелкихъ частей, вдавался въ частности, въ натянутыя сравненія, причемъ старался часто отыскать сходственныя стороны между предметами, совершенно чуждыми, неподлежащими никакому сравненію. Такъ напр. это стремленіе къ наглядности и ясности въ изложеніи побуждаетъ одного изъ современныхъ писателей, при толкованіи «о сотвореніи міра», выписывать «вѣдомости ради» вовсе неидущія къ дѣлу свѣдѣнія изъ астрологіи и физики о кругахъ небесныхъ, кометахъ, планетахъ и зодіакахъ, звѣздахъ, солнечныхъ затмѣніяхъ и т. д. Такимъ же точно образомъ стремленіе къ подраздѣленію и классификаціи матерьяла часто доводитъ автора до смѣшныхъ крайностей: одинъ изъ современныхъ ораторовъ подраздѣляетъ, напримѣръ, грѣхи по сословіямъ, ремесламъ и промысламъ, доказывая, что у каждаго изъ принадлежащихъ къ этимъ классамъ людей есть свои частные виды грѣховъ, тѣсно связанныхъ съ ихъ образомъ жизни и занятіями.
Многіе изъ авторовъ, сверхъ того, старались раздѣлять свои произведенія чисто-формальнымъ образомъ, въ связи съ какимъ-нибудь обстоятельствомъ жизни Спасителя или другимъ событіемъ Св. Писанія. Такъ напр. митрополитъ кіевскій Исаія Копинскій (ум. 1634) раздѣлилъ свою книгу, «Л_ѣ_с_т_в_и_ц_а д_у_х_о_в_н_а_я», на 33 главы, по числу лѣтъ земной жизни Спасителя, хотя это раздѣленіе не состоитъ, собственно говоря, ни въ какой внутренней связи съ содержаніемъ излагаемаго имъ. Совершенно схоластическое преобладаніе внѣшней формы надъ содержаніемъ книги выражается даже и въ наружномъ видѣ большей части книгъ, печатаемыхъ около этого времени на юго-западѣ Руси. Во главѣ книги, на первомъ заглавномъ листкѣ ея, обыкновенно является гравюра, изображающая символически все содержаніе книги въ видѣ мудренаго рисунка, въ смыслъ и значеніе. котораго очень бываетъ трудно вникнуть человѣку, незнакомому съ тонкостями современнаго схоластицизма и символики. Авторы, вѣроятно, чувствовали это, и потому старались снабжать такія заглавныя гравюры объяснительными подписями и стихотворными или прозаическими истолкованіями, напечатанными тотчасъ вслѣдъ за гравюрой. Такимъ же точно образомъ, при обще-распространенномъ пристрастіи къ символизму и его хитросплетеніямъ, авторы обыкновенно старались въ стихахъ истолковать и мудреныя заглавія своихъ произведеній. Такъ, напримѣръ, Антоній Радивиловскій, издавшій въ свѣтъ два сборника своихъ произведеній, одинъ подъ названіемъ «Огородокъ (т. е. садъ) Маріи Богородицы», другой лодъ заглавіемъ «Вѣнецъ Христовъ», такъ изъяснилъ каждое изъ этихъ заглавій въ началѣ обѣихъ книгъ. Въ началѣ «Огородка» онъ говоритъ: «сей начатокъ труда смиренно приноситъ Тебѣ въ жертву прахъ, пепелъ, недостйный рабъ и насадитель огородка… Молю, да за этотъ насажденный Тебѣ огородокъ, Ты введешь меня, на второмъ пришествіи Сына Твоего, въ небесный огородокъ вмѣстѣ со святыми». Тотчасъ вслѣдъ за этими онъ считаетъ необходимымъ истолковать и мудреную гравюру на заглавномъ листѣ книги слѣдующимъ образомъ: «какъ Новуходоносоръ» — говоритъ онъ — «устроилъ въ Вавилонѣ висячій садъ на высокихъ каменныхъ столпахъ, такъ и Ты, о Маріе, стоишь на дарахъ Духа Святаго, будто на столпахъ». Другой сборникъ свой, извѣстный подъ названіемъ: «Вѣнецъ Христовъ, изъ проповѣдей недѣльныхъ, аки изъ цвѣтовъ рожаныхъ (т. е. розовыхъ) сплетенный», Антоній Радивиловскій старается пояснить слѣдующимъ двустишіемъ:
«Цвѣтами словесъ Царя Бога Слова
Глава да будетъ вѣнчана Христова».
Другой современный писатель, Максимовичъ, издавшій въ алфавитномъ порядкѣ стихотворныя похвалы святымъ подъ общимъ заглавіемъ: «Алфавитъ соборный, риѳмами сложенный», также начинаетъ свою книгу съ истолкованія ея заглавія:
«Се ти черниговскія Аѳины духовну
Предлагаютъ трапезу, книгу риѳмословну,
Алфавитъ рекому» и т. д.
Вообще говоря, и во внѣшней формѣ, какъ и во внутреннемъ содержаніи современной литературы, мы видимъ много сторонъ, совершенно новыхъ, неимѣющихъ ничего общаго съ предшествующимъ періодомъ литературы древне-русской, развивавшейся на сѣверо-востокѣ. Вліяніе Польши, послужившей нашему юго-западу образцомъ образованности замѣтно и во всей литературѣ нашего юго-запада. Не только языкъ этой литературы является сильно-испорченнымъ подъ вліяніемъ болѣе богатаго въ литературномъ отношеніи языка польскаго, но въ самое непродолжительное время образуется даже цѣлый новый отдѣлѣ литературы — поэтическій, стихотворный, въ которомъ при помощи совершенно новаго на русской почвѣ стиха силлабическаго 1), заимствованнаго также отъ поляковъ, является возможность проповѣдникамъ переходить отъ проповѣди къ чисто-лирическимъ восхваленіямъ Божества, его чудесъ, его благости и т. д. Но объ этомъ мы еще будемъ говорить далѣе, при разборѣ другихъ новыхъ литературныхъ родовъ, занесенныхъ на нашу почву съ польскаго запада.
1) См. о силлабическомъ стихѣ далѣе, въ XVI главѣ.
Въ заключеніе же этой главы намъ придется еще сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ и чѣмъ проявилось практическое, утилитарное направленіе кіевской ученой литературы и образованности, о которомъ мы упоминали выше, и которому не даромъ придавали важное значеніе. Дѣйствительно, занимаясь полемико-догматической литературой и тратя столько силъ и энергіи на созданіе громадной массы религіозно-ораторскихъ произведеній, юго-западное духовенство заботилось не, о своихъ временныхъ и преходящихъ интересахъ: — оно дальновидно и зорко стремилось къ тому, чтобы приготовить орудіе разума и слова для будущихъ поколѣній, и создавало весьма обширную литературу учебниковъ и справочныхъ книгъ, которая должна была въ будущее время явиться прочною основою для элементарнаго образованія.
Выше мы уже упоминали о грамматикахъ Лаврентія Зизанія и Медетія Смотрицкаго, явившихся первыми русскими грамматическими учебниками въ школахъ; послѣдняя изъ нихъ продержалась у насъ на Руси даже до появленія грамматики Ломоносова (въ половинѣ XVIII в.), который многое изъ нея заимствовалъ въ свою грамматику. Вслѣдъ за учебниками грамматическими являются к_а_т_и_х_и_з_и_с_ы; изъ нихъ обращаютъ на себя вниманіе уже помянутый нами к_р_а_т_к_і_й к_а_т_и_х_и_з_и_с_ъ П. Могилы, и другой, почти одновременно съ нимъ составленный, катихизисъ Лаврентія Зизанія, явившійся въ свѣтъ въ 1627 г. Книга эта не лишена довольно важнаго научнаго интереса, именно съ той стороны? что авторъ старается истолковывать отвлеченные предметы «простыми прилогами» (т. е. примѣрами) и вноситъ съ свою книгу, хоть и не всегда кстати, множество энциклопедическихъ свѣдѣній, какъ доказательство научныхъ истинъ. За катихизисами и грамматиками, этими насущнѣйшими пособіями всякаго школьнаго преподаванія, являются учебники богословія и богословскіе трактаты, по части отдѣльныхъ предметовъ богословскаго преподаванія. Сначала Кириллъ Транквилліонъ, около 1618 года, выдаетъ въ свѣтъ свое «Зерцало Богословія»; затѣмъ, на томъ же поприщѣ трудятся: Исаія Копинскій, митрополитъ кіевскій, и Иннокентій Гизіель, архимандритъ Кіево-печерской лавры; наконецъ, между 1693 и 1697 гг. является «учебникъ богословія» другаго кіевскаго митрополита, Іоасафа Кроковскаго, особенно замѣчательный потому, что всѣ отдѣльныя статьи его дѣлятся на двѣ части: с_о_з_е_р_ц_а_т_е_л_ь_н_у_ю (догматическую) и с_о_с_т_я_з_а_т_е_л_ь_н_у_ю (полемическую). Рядомъ съ этими богословскими учебниками, подъ непосредственнымъ вліяніемъ сильно развившагося ораторства духовнаго, явились и чисто-риторическія руководства для духовныхъ ораторовъ, и различные сборники, которыми думали пополнить недостатокъ матерьяла для духовнаго оратора. Мы видимъ, дѣйствительно, цѣлый рядъ сборниковъ, исключительно посвященныхъ чудесамъ Дѣвы Маріи и святыхъ, подъ различными заглавіями, напр. «Небо новое съ новыми звѣздами, т. е. преблагословенная Дѣва Марія съ чудами своими» (1665); «Скарбница потребная всему свѣту», въ которой чудеса, излагаемыя западной церковью, дополнены чудесами церкви россійской; «Руно орошенное» св. Дмитрія Ростовскаго (1680), заключающее въ себѣ всего 24 чуда, по числу часовъ дня: каждому изъ этихъ чудесъ посвящена особая глава, подраздѣленная на четыре части: 1) описаніе чуда, 2) бесѣду, 3) нравоученіе, 4) прилогъ, т. е., разсказъ о чудѣ по восточнымъ или западнымъ источникамъ. Какъ бы результатомъ и основой всей этой усиленной ораторской дѣятельности является книга Іоанникія Галятовскаго — «Ключъ Разумѣнія» (1659), содержащая въ себѣ «казанья» (т. е. проповѣди) на праздники Господскіе и Богородичные, и вмѣстѣ съ тѣмъ «Науку албо способъ сложенія казаній». Это руководство послужило образцомъ для всѣхъ дальнѣйшихъ риторическихъ учебниковъ, какіе являются у насъ въ XVIII в. Существеннѣйшею стороною ихъ оказывается именно то, что они не только излагаютъ науку въ общихъ ея основаніяхъ, но и даютъ правила на самые частные случаи. Строго опредѣлены даже формы выраженій, изъ которыхъ не дозволялось выступать. Воспитанники обязаны были вытверживать слова и обороты, сообщающіе рѣчи красоту. Руководства снабжены были особымъ спискомъ словъ, служащихъ для похвалы или порицанія. Предлагались правила для восхваленія не только человѣка, но и области, города, рѣки, поля, зданія… Составители учебниковъ заботились при этомъ и о запасѣ матерьяловъ для пополненія рѣчи приличнымъ содержаніемъ. Матерьялы распредѣлялись по отдѣламъ: въ одномъ помѣщались историческія граматы, въ другомъ — изреченія ученыхъ, въ третьемъ — символическія изображенія и т. д. 1).
1) Галахова Истор. Русск. Словесн. древней и новой; ч. 1, стр. 183. Изд. первое.
Въ связи съ этими руководствами, учебниками, сборниками матерьяловъ и пособіями нельзя не упомянуть о книгѣ, составленной Иннокентіемъ Гизіелемъ, ректоромъ Кіевской духовной академіи. Книга Гизіеля озаглавлена такъ: «Синопсисъ или краткое собраніе отъ разныхъ лѣтописцевъ о началѣ славяно-россійскаго народа и первоначальныхъ князей богоспасаемаго града Кіева». Трудъ Гизіеля не былъ вполнѣ самостоятельнымъ: уже до него Ѳеодосій Сафоновичъ, игуменъ Кіевскаго Михайловскаго монастыря, написалъ хронику событій русской исторіи до конца XIII в. Гизіелъ воспользовался этимъ трудомъ и только пополнилъ его событіями послѣдующихъ вѣковъ. Преобладающимъ направленіемъ въ С_и_н_о_п_с_и_с_ѣ Гизіеля является патріотическое одушевленіе, желаніе придать какъ можно болѣе блеска изложенію всѣхъ частностей русской исторіи. Самое имя славянъ производится отъ славы, а родословная баснословныхъ кіевскихъ князей Кія, Щека и Хорива возводится до библейскаго Іафета. Не смотря на множество историческихъ несообразностей и положительныхъ ошибокъ, этотъ учебникъ употреблялся во всѣхъ русскихъ школахъ до временъ Ломоносова, и какъ первый опытъ начертанія русской исторіи онъ имѣетъ для насъ то важное значеніе, что несомнѣнно былъ плодомъ сознанія своей національной отдѣльности, сознанія того, что угнетаемая Польшею и іезуитами русская народность нашего юго-запада имѣетъ свое достославное прошлое и всѣ права на лучшее будущее.

XVI.
правитьНевѣжество и справщики. — Первыя школы въ Москвѣ. — Котошихинъ и Крижаничъ. — Никонъ. Юго-западные ученые въ Москвѣ. — Московская славяно-греко-латинская академія.
правитьДаже въ то время, когда на западѣ и юго-западѣ Руси тягостныя условія историческія пробудили отъ сна и вызвали къ жизни силы народнаго духа, направивъ ихъ къ одной общей цѣли — образованію, Московское государство только еще заканчивало счеты со своимъ прошлымъ, и далеко еще было отъ сознанія того, что и ему пора озаботиться внесеніемъ образованія въ обширные предѣлы Руси. Московской Руси не представлялось тѣхъ удобствъ къ распространенію просвѣщенія у себя дома, какія были подъ рукою у русскаго населенія на литовской Украйнѣ или на польскомъ юго-западѣ; да къ тому же, при историческихъ условіяхъ быта, среди которыхъ сложилась жизнь общественная въ московской Руси, самая потребность въ образованіи не могла проявиться такъ живо и дѣятельно, какъ проявилась она среди угнетеннаго и всячески утѣсняемаго русскаго населенія Литвы и Польши. Полнѣйшая централизація власти въ Москвѣ, сильнѣйшее преобладаніе высшаго сословія боярскаго, хотя на время и ослабленнаго Грознымъ, но получившаго впослѣдствіи еще большее значеніе — все это приводило въ тому необходимому слѣдствію, что всякое благо или зло могло исходить только сверху, отъ высшихъ слоевъ къ нисшимъ, отъ царя и вельможъ и высшихъ представителей духовенства; всякій шагъ впередъ на пути нравственнаго и умственнаго развитія могъ быть сдѣланъ только Москвою и изъ Москвы.
Правда, уже въ половинѣ XVI вѣка, рядомъ съ памятниками, указывающими на сознательное довольство современными условіями быта, рисующими на основаніи ихъ идеалъ семьянина и гражданина, мы замѣчаемъ нѣкоторое недовольство въ обществѣ, слышимъ изъ устъ самого царя на Стоглавомъ соборѣ порицаніе «общественныхъ неустройствъ, неурядицъ, глубокаго невѣжества, среди котораго коснѣетъ и общество, и духовенство»; но, не смотря на все это, въ большинствѣ лучшихъ людей Московскаго государства еще живетъ, ростетъ и крѣпнетъ то высокое мнѣніе о самихъ себѣ и то полнѣйшее презрѣніе къ другимъ народамъ, которому нашъ историкъ такъ удачно далъ названіе к_и_т_а_и_з_м_а 1). Преувеличенное и возведенное до крайности уваженіе къ старинѣ, къ преданію, суевѣрный ужасъ передъ всякою новизною, передъ всякимъ даже и существенно необходимымъ отступленіемъ отъ обычая предковъ, страшнымъ гнетомъ тяготѣли надъ духовною и умственною жизнью русскаго народа, поставленнаго въ исключительно-одинокое, замкнутое положеніе. Это направленіе, подъ вліяніемъ крайней неграмотности и невѣжества, особенно преобладало по отношенію къ предметамъ религіознымъ и къ церковному богослуженію. Сила невѣжества и этой ложной привязанности къ старинѣ, на которую указывали, совершенно безсознательно, какъ на идеалъ для дѣйствительности, были велики даже и въ средѣ духовенства, а понятія о настоящей образованности, которая могла соотвѣтствовать современнымъ потребностямъ, на столько ограниченны въ обществѣ, что даже и введеніе книгопечатанія не могло измѣнить у насъ жалкаго положенія нашей письменности. Книги священныя и богослужебныя печатались почти также неисправно и дурно, какъ переписывались писцами, прежде введенія книгопечатанія, и весьма нелегко было найти с_п_р_а_в_щ_и_к_а для типографіи на столько грамотнаго, чтобы онъ могъ предупредить появленіе въ текстѣ даже и самыхъ грубыхъ опечатокъ и описокъ, умышленныхъ или неумышленныхъ.
1) Соловьевъ, XIII, 196.
Инокъ Арсеній Глухой, занимавшійся при патріархѣ Филаретѣ исправленіемъ печатаемыхъ книгъ, прямо свидѣтельствуетъ, что справщиками бывали, въ большинствѣ случаевъ, люди, не имѣвшіе понятія «ни о православіи, ни о кривославіи», едва умѣвшіе грамотѣ, часто даже не понимавшіе различія между гласными и согласными буквами, и, конечно, уже вовсе не имѣвшіе понятія о значеніи частей рѣчи и другихъ «грамматическихъ хитростяхъ».

Преданія, завѣщанныя Максимомъ Грекомъ и развитыми имъ немногими представителями русской образованности XVI столѣтія, вымирали на глазахъ всѣхъ и удостоивались только презрѣннаго названія ереси отъ слѣпыхъ приверженцевъ старины и обязательнаго невѣжества; и вмѣстѣ съ этимъ, стѣна китаизма, которою Московское государство старалось отдѣлить себя отъ всего остальнаго міра, росла и крѣпла около Москвы…
Много тяжкихъ испытаній и горькихъ бѣдствій должна была пережить въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія московская Русь для того, чтобы въ обществѣ, подъ сильнымъ гнетомъ матеріальной и духовной нищеты, недовольство современнымъ общественнымъ устройствомъ могло сказаться яснѣе и громче. Нельзя не обратить вниманія на тотъ печальный фактъ, что русскіе люди, посланные Борисомъ Годуновымъ за границу для науки, предпочли остаться тамъ и не возвратились въ отечество. Въ особенности же послѣ окончанія смутнаго времени, въ самомъ началѣ XVII вѣка, Московскому государству, волей-неволей, пришлось убѣдиться въ своей слабости, въ недостаточности своихъ силъ даже и для обороны границъ своихъ. Бѣдствія войны и внутренней неурядицы, часто вынуждавшія прибѣгать къ помощи иноземныхъ государствъ, въ теченіе. тягостнаго періода, наступившаго вслѣдъ за смертью Годунова — все это значительно поколебало издавна укоренившуюся въ Москвѣ увѣренность въ своемъ матерьяльномъ могуществѣ и значеніи. «Допущеніе все большаго и большаго количества иностранцевъ внутрь государства, ясно высказываемая потребность въ нихъ, явно выказываемое признаніе превосходства ихъ въ наукѣ, необходимость учиться у нихъ, предвѣщали скорый переворотъ въ жизни русскаго общества, скорое сближеніе съ западной Европой. При царѣ Михаилѣ вызывали изъ-за границы не однихъ рабочихъ людей, не однихъ мастеровъ и заводчиковъ, — понадобились и люди ученые… Съ одной стороны въ наукѣ нуждалось государство для удовлетворенія самымъ необходимымъ потребностямъ, для охраненія цѣлости и самостоятельности своей отъ иностранцевъ, болѣе искусныхъ и потому болѣе сильныхъ; съ другой стороны нуждалась въ наукѣ церковь для охраненія чистоты своего ученія» 1). И вотъ патріархъ Филаретъ заводитъ въ 1633 году первое высшее училище при Чудовомъ монастырѣ, которое и получаетъ названіе Ч_у_д_о_в_с_к_о_й или г_р_е_к_о-л_а_т_и_н_с_к_о_й ш_к_о_л_ы. Завѣдываніе школой поручается, уже извѣстному намъ ученому иноку, Арсенію Глухому. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, по государеву указу, переводится съ латинскаго языка «полная космографія» Иваномъ Дорномъ и Богданомъ Лыковымъ (1637 г.); затѣмъ, въ 1639 году, выдается отъ государя опасная грамата для пріѣзда въ Москву извѣстному ученому гольштинцу, Адаму Олеарію. «Вѣдомо намъ учинилось», — говоритъ царь въ той граматѣ — «что ты гораздо наученъ и навыченъ астрономію, и географусъ, и небеснаго бѣгу, и землемѣрію, и инымъ многимъ подобнымъ мастерствамъ и мудростямъ, а намъ, великому государю, таковъ мастеръ годенъ». Рядомъ съ этимъ многознаменательнымъ и новымъ въ русской жизни фактомъ не мѣшаетъ упомянуть и о томъ, что нѣкоторые изъ приближеннѣйшихъ къ государю вельможъ, отправляясь за границу въ посольство, возвращаются оттуда съ богатыми запасами книгъ и даже весьма опредѣленною склонностью ко всему западному, иностранному; что открытые приверженцы западнаго образованія и западныхъ идей, подобные боярину Морозову, являются воспитателями дѣтей царя Михаила Ѳеодоровича и даже, не стѣсняясь ропотомъ большинства, шьютъ нѣмецкое платье своимъ воспитанникамъ царевичамъ и всѣмъ дѣтямъ, вмѣстѣ съ ними получающимъ воспитаніе. Но все это только первые, нетвердые шаги по вѣрному пути, и старая основа русскаго застоя, неподвижности, высокаго мнѣнія о себѣ и слѣпого уваженія къ буквѣ писаннаго закона еще чрезвычайно сильна въ обществѣ. Въ то же время, когда государь и близкіе къ нему люди выказываютъ явное уваженіе къ западной наукѣ и даже, отчасти, къ западнымъ обычаямъ, когда патріархъ Филаретъ учреждаетъ первое училище, книгопечатаніе остается, по недостатку людей, въ небреженіи, и самое исправленіе книгъ богослужебныхъ и Св. Писанія поручается людямъ крайне неблагонадежнымъ. Въ особенности въ патріаршество Іосифа (1642—1652 гг.) книги печатныя подвергаются значительной порчѣ и важнымъ искаженіямъ, потому что справщиками являются такія лица, какъ знаменитый впослѣдствіи протопопъ Аввакумъ, дьяконъ благовѣщенскаго собора, Ѳеодоръ, царскій духовникъ, Стефанъ Вонифантьевъ, ключарь успенскаго собора, Иванъ Нероновъ и мн. др., вскорѣ послѣ того заявившіе себя открыто противниками общепринятыхъ церковныхъ обычаевъ и мнѣній и ставшіе во главѣ того религіозно-гражданскаго движенія, которое проявилось открыто въ русскомъ обществѣ съ половины XVII столѣтія и съ тѣхъ поръ стало извѣстно подъ общимъ названіемъ раскола. Этимъ-то людямъ, исполненнымъ суевѣрнаго благоговѣнія къ буквѣ старыхъ писаныхъ и печатныхъ книгъ и, въ то же время, энергически преданныхъ своему дѣлу, въ короткое время удалось распространить по церквамъ русскимъ болѣе 6000 книгъ, исполненныхъ различнаго рода искаженіями. При такомъ усердіи невѣжественнаго и суевѣрнаго большинства, конечно, одинокими и слабыми должны были являться даже и самыя благородныя усилія просвѣщеннѣйшихъ лицъ изъ числа вельможъ, ничего не жалѣвшихъ для распространенія образованія въ Москвѣ. Въ 1649 году, бояринъ Ртищевъ, принадлежавшій вмѣстѣ съ Ординымъ-Нащокинымъ и Матвѣевымъ къ числу наиболѣе образованныхъ покровителей наукъ въ Россіи, основываетъ еще одно, новое училище при Андреевскомъ монастырѣ, и для обученія юношества рѣшается вызвать нѣкоторыхъ ученыхъ иноковъ изъ Кіево-печерской лавры. Во главѣ этихъ ученыхъ кіевскихъ, которымъ впервые является возможность внести плоды своей учености и образованія въ столицу русскаго міра, является человѣкъ весьма замѣчательный — іеромонахъ Ефифаній Славинецкій, воспитавшійся въ Кіево-Могилянской коллегіи и заграничныхъ школахъ, обладавшій основательнымъ знаніемъ классическихъ языковъ и языка славянскаго. Но время такихъ мирныхъ, одинокихъ и постепенныхъ усилій уже миновало; старыя начала жизни общественной, отжившія свой вѣкъ, какъ : ни были тверды и упорны, однакоже должны были непремѣнно вступить въ ожесточенную и послѣднюю борьбу съ наплывомъ новыхъ идеи, съ напоромъ европейской цивилизаціи, которая около половивы XVII столѣтія стала проникать къ намъ не только черезъ Польшу, но и непосредственно съ запада. Что въ обществѣ русскомъ около этого времени дѣйствительно жило полное сознаніе несостоятельности современнаго порядка вещей, тому остались весьма любопытныя и важныя свидѣтельства современниковъ-очевидцевъ. Однимъ изъ такихъ свидѣтельствъ является сочиненіе подъячаго посольскаго приказа, Г_р_и_г_о_р_і_я К_о_т_о_ш_и_х_и_н_а, который, состоя на службѣ при воеводѣ князѣ Долгорукомъ, во время второй польской войны (начавшейся въ 1660 г.), не поладилъ съ воеводой, и, опасаясь его мести, вынужденъ былъ бѣжать въ Польшу, а потомъ въ Швецію, гдѣ и оставался до своей смерти 2). Котошихинъ далъ своей книгѣ нѣсколько неопредѣленное заглавіе: ,,О Р_о_с_с_і_и в_ъ ц_а_р_с_т_в_о_в_а_н_ь_е А_л_е_к_с_ѣ_я М_и_х_а_й_л_о_в_и_ч_а". Книга эта была окончена (въ 1666—1667 гг.) и впослѣдствіи даже переведена на шведскій языкъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ канцлера Магнуса де-ла-Гарди, сына Якова де-ла-Гарди, извѣстнаго въ нашей исторіи своими воинскими подвигами.
1) Соловьевъ, IX, 457.
2) Онъ былъ казненъ за убійство хозяина дома, въ которомъ жилъ; причиною ссоры была жена хозяина.
Мы назвали заглавіе книги Котошихина неопредѣленнымъ собственно потому, что изъ его книги нельзя получить никакого понятія о состояніи Россіи въ царствованье одного изъ благодушнѣйшихъ государей ея, Алексѣя Михайловича. О церкви и духовенствѣ Котошихинъ вовсе не упоминаетъ въ своей книгѣ; о народѣ и нисшихъ сословіяхъ говоритъ вообще мало. Преимущественно распространяется онъ о бытѣ и жизни высшихъ сословій, придворнаго и боярскаго. Съ знаніемъ дѣла, чисто-фактически, какъ посторонній, хотя и не совсѣмъ спокойный наблюдатель, Котошихинъ развертываетъ передъ нами непривлекательную картину нашего общественнаго быта въ царствованье Алексѣя Михайловича, и весьма отчетливо знакомитъ насъ съ устройствомъ всего современнаго административнаго механизма. Книга его важна именно тѣмъ, что «даетъ свѣдѣнія, которыя были недоступны для иностранца и составляли, по понятіямъ того времени, канцелярскую тайну».

Котошихинъ доказываетъ положительно несостоятельность бояръ, какъ правителей и какъ совѣтниковъ царскихъ, на томъ собственно основаніи, что многіе изъ нихъ — «грамотѣ не ученые и не студерованные». Съ ужасомъ и отвращеніемъ говоритъ Котошихинъ о состояніи правосудія въ Россіи и не упускаетъ нигдѣ случая сравнивать наши учрежденія съ учрежденіями заграничными, выставляя на видъ превосходство послѣднихъ и крайне сожалѣя о томъ, что соотечественники его не посылаютъ дѣтей учиться заграницу и что для нихъ самихъ всякій выѣздъ за границу, даже по торговымъ дѣламъ, оказывается крайне затруднительнымъ. Переходя отъ описанія нравовъ общественныхъ къ подробностямъ семейнаго быта, Котошихинъ и здѣсь, перечисляя всѣ мрачныя стороны современной жизни семейной, какъ на главную основу бѣдствій, указываетъ на то, что «Московскаго государства женскй полъ неученъ». Общій выводъ его тотъ, что главная причина всѣхъ современныхъ нестроеній, достигшихъ крайняго предѣла въ Московскомъ государствѣ — это все же н_е_в_ѣ_ж_е_с_т_в_о, также достигшее крайнихъ предѣловъ своего развитія. — «Надо учиться, у иностранцевъ учиться, и дѣтей туда же для обученья посылать!» — вотъ мысль, которая, при чтеніи сочиненій Котошихина, проглядываетъ изъ каждой его строки.
Другое, не менѣе важное свидѣтельство представляетъ намъ обширный трудъ Ю_р_і_я К_р_и_ж_а_н_и_ч_а, родомъ хорвата, а по званію католическаго священника, прибывшаго въ Россію въ 1659 году. Юрій Крижаничъ род. въ Загребской жупаніи, въ 1617, и, по происхожденію, принадлежалъ къ одному изъ весьма древнихъ и знатныхъ, но обѣднѣвшихъ родовъ. Какъ многіе изъ бѣдныхъ хорватскихъ дворянъ, Юрій Крижаничъ вынужденъ былъ избрать духовную карьеру, и покровительствуемый З_а_г_р_е_б_с_к_и_м_ъ епископомъ Винковичемъ, обратившимъ вниманіе на его замѣчательныя способности, отправленъ былъ (ок. 1638 г.) сначала въ Вѣнско-Хорватскую семинарію, а оттуда въ Болонью, для изученія высшихъ наукъ, въ особенности юридическихъ. Отсюда онъ, уже по собственной охотѣ, перебрался въ Римъ, и, увлекаясь идеей уніи, поступилъ здѣсь въ греческую коллегію св. Анастасія, въ которой и сошелся съ нѣсколькими выходцами изъ Польши и Россіи. При помощи этихъ выходцевъ онъ ознакомился съ языками русскимъ и церковно-славянскимъ, отъ нихъ же получилъ и первыя понятія о Россіи и о русскомъ народѣ. Нѣсколько позже, разочаровавшись въ идеѣ религіозной уніи, Крижаничъ, болѣя сердцемъ о жалкой участи своей отчизны и всего славянства подъ гнетомъ турокъ и нѣмцевъ, сталъ переходить къ другому увлеченію — къ увлеченію идеей громаднаго всеславянскаго государства, которое, по его мнѣнію, должно было создаться въ будущемъ, подъ непосредственнымъ главенствомъ Россіи. И вотъ, подъ вліяніемъ этого увлеченія, Крижаничъ, въ 1657 г., задумалъ ѣхать въ Россію, и, проживъ нѣкоторое время во Львовѣ, явился въ Малороссію. Здѣсь прожилъ онъ долго, близко вглядѣлся въ отношенія Малороссіи къ Польшѣ и Бѣлоруссіи, и наконецъ перебрался въ Москву. По собственному признанію Крижанича, онъ пришелъ въ Россію дабы выполнить три главныхъ задачи: «во-первыхъ, поднять славянскій языкъ, написавши для него грамматику и лексиконъ, чтобъ мы могли правильно говорить и писать, чтобы было у насъ обиліе реченій, сколько нужно для выраженія человѣческихъ мыслей при общихъ народныхъ дѣлахъ; во-вторыхъ — написать исторію славянъ, въ которой опровергнуть нѣмецкія лжи и клеветы; въ третьихъ — обнаружить хитрости и обольщенія, которыми чужіе народы обманываютъ насъ, славянъ». Первую и послѣднюю изъ этихъ задачъ Крижаничъ дѣйствительно и привелъ въ исполненіе, но — уже во время пребыванія въ ссылкѣ, въ Тобольскѣ, куда онъ, по неизвѣстной причинѣ, отправленъ былъ въ 1661 г., чтобы, по Государеву указу, «быть ему тамъ у Государевыхъ дѣлъ, у какихъ пристойно». Г. Соловьевъ предполагаетъ, что причиною ссылки молодаго хорвата была та горячность, съ какою возставалъ онъ противъ греческаго духовенства, прибывавшаго въ Россію, стараясь всячески изобличить его своекорыстіе и различныя злоупотребленія щедростью русскихъ людей. Болѣе другихъ трудовъ Крижанича важно для насъ его сочиненіе, изданное лишь весьма недавно подъ общимъ заглавіемъ: «Русское государство въ половинѣ XVII вѣка». Характеромъ изложенія книга Крижанича значительно отличается отъ книги Котошихина: — здѣсь читатель видитъ не подробное, критическое описаніе современнаго состоянія нѣкоторыхъ частей государственнаго и общественнаго организма Россіи XVII вѣка, а нѣсколько тенденціозное разсужденіе о томъ, какъ бы слѣдовало измѣнить современное положеніе дѣлъ въ Россіи, въ какой степени допустить иноземное вліяніе, и какія именно мѣры принять противъ того или другаго общественнаго зла или недуга. Чрезвычайно любопытнымъ кажется намъ то, что Крижаничъ въ своемъ увлеченіи могуществомъ и политическою независимостью Россіи; въ которой онъ видитъ въ будущемъ единственную опору славянскаго міра, совѣтуетъ русскимъ равно опасаться и нѣмцевъ, и грековъ, и хотя по мѣрѣ силъ и перенимать отъ нихъ все хорошее, но ни тѣмъ, ни другимъ не давать возможности пріобрѣсть вліяніе на внутреннее устройство государства россійскаго. Сверхъ того, онъ совѣтуетъ, воспользовавшись единодержавнымъ устройствомъ Московскаго государства, вводить въ немъ необходимыя для его благосостоянія реформы прямо сверху, чисто административнымъ путемъ, не затрудняясь сопротивленіемъ массы 1). И въ заключеніе своей книги ученый хорватъ предлагаетъ то же самое средство, какое выше мы уже слышали изъ устъ Котошихина. Первое и главное средство — это наука; необходимо ввести ее въ Россіи и окружить себя мертвыми совѣтниками, книгами, «ибо между живыми людьми мало добрыхъ совѣтниковъ, а книги не увлекаются ни алчностью, ни враждою, ни любовью: книги не ласкательствуютъ, не боятся повѣдать истины». «Всякимъ другимъ людямъ» — продолжаетъ Крижаничъ — «хорошо учиться мудрости изъ практическаго опыта; не полезно же это однимъ только верховнымъ владѣтелямъ, потому что частный человѣкъ учится ошибками, а ошибки государей влекутъ за собою неисправимыя бѣдствія народныя. И такъ государямъ необходимо учиться мудрости отъ добрыхъ учителей, книгъ и совѣтниковъ, а не изъ опыта, Да не скажетъ кто-либо, что намъ, славянамъ, путь къ знанію закрытъ рѣшеніемъ небесъ, какъ будто бы мы не могли и не должны были усвоивать себѣ науки: и остальные народы не въ одинъ день и годъ, но мало по малу учились отъ другихъ; такъ и мы можемъ научиться, если захотимъ и постараемся. И теперь именно время учиться, потому что Богъ возвысилъ на Руси государство славянское, какого прежде никогда не бывало въ нашемъ племени, а извѣстно, что у народовъ науки начинаютъ процвѣтать въ періодъ наибольшей силы политической. Скажутъ: между мудрыми рождаются ереси, и потому не надобно учиться мудрости. Отвѣчаю: ереси начинаются и между неучеными людьми. Мудростью ереси искореняются, а вслѣдствіе невѣжества пребываютъ во вѣки. Отъ огня, воды, желѣза умираютъ многіе люди, но безъ желѣза, огня и воды и жить-то нельзя: точно также и мудрость потребна людямъ». Грустно подумать, что такой ученый и способный труженикъ не могъ быть оцѣненъ въ ту пору на Руси, и что только уже по воцареніи царя Ѳеодора Алексѣевича, въ 1676 г., состоялся приказъ о возвращеніи Ю. Крижанича изъ ссылки въ Москву. Здѣсь пробылъ онъ не долго, и умеръ внѣ Россіи. И такъ, черезъ сто лѣтъ послѣ Курбскаго еще нужны были люди, которые бы повторяли то, что уже было имъ высказано, и точно также, какъ онъ, защищали бы пользу науки и образованія!
1) Этотъ способъ дѣйствій, а отчасти и программа предлагаемыхъ Крижаничемъ реформъ не могли не оказать впослѣдствіи нѣкотораго вліянія на Великаго Преобразователя Россіи, тѣмъ болѣе, что сочиненіе Крижанича, какъ достовѣрно извѣстно, находилось въ числѣ прочихъ книгъ «на верху государевомъ».
Но въ теченіе этихъ ста лѣтъ успѣло со-вершиться многое. «Экономическая и нравственная несостоятельность была сознана», — говоритъ намъ историкъ — «народъ живой и крѣпкій рвался изъ пеленокъ, въ которыхъ судьба держала его долѣе, чѣмъ слѣдовало. Вопросъ о необходимости поворота на новый путь былъ рѣшенъ; новости являлись необходимо. Сравненіе и тяжелый опытъ произвели свое дѣйствіе, раздались страшныя слова: „у другихъ лучше“ — и не перестанутъ повторяться… Слова страшныя, потому что они необходимо указывали на приближающееся время заимствованій, ученія, время духовнаго ига, хотя и облегченнаго политическою независимостью и могуществомъ, но все же тяжелаго. Дѣло необходимое, но тяжелое не могло сдѣлаться легко, спокойно, безъ со-противленія, которое вызывало борьбу, вело къ перевороту, т. е. къ дѣйствію насильственному» 1).
1) Соловьевъ; стр. 170.

И вотъ, дѣйствительно, во второй половинѣ XVII вѣка наступаетъ періодъ ожесточенной борьбы стараго порядка вещей съ новымъ, старыхъ идей съ новыми; на одной сторонѣ стоятъ всѣ приверженцы старины и преданія, всѣ поклонники узкаго, буквальнаго толкованія религіи и закона, съ ужасомъ взирающіе на грозный для нихъ и неудержимый напоръ всякихъ новшествъ, — съ другой стороны, образованное меньшинство, смѣло избирающее новый путь, поддерживаемое постоянно прибывающими въ Москву новыми, свѣжими людьми, уже успѣвшими вкусить западной науки въ школахъ юго-западной Руси и въ Кіево-Могилянской коллегіи.

Духовная жизнь и дѣятельность древней Руси вся сосредоточивалась въ церкви и духовенствѣ, й вотъ почему при наступленіи вышеупомянутаго періода тревожныхъ опасеній за поврежденіе древнихъ преданій и стараго порядка вещей, при наступленіи періода борьбы противъ суевѣрій и въ защиту науки и образованія — этой борьбѣ прежде всего суждено было проявиться въ церкви нашей и въ средѣ духовенства. Борьба эта, какъ извѣстно, открыто началась въ патріаршество Никона.
Патріархъ Н_и_к_о_н_ъ (род. 1605, ум. 1681) представляетъ собою одинъ изъ наиболѣе видныхъ и замѣчательныхъ типовъ того тяжкаго переходнаго времени, которое Русь переживала въ исходѣ XVII вѣка, наканунѣ эпохи преобразованіи; крестьянинъ родомъ (нижегородской области, села Вильдеманова), суровый аскетъ по духу, онъ уже очень рано увлекся тѣмъ идеаломъ созерцательнаго нравственнаго успокоенія, который столь многимъ казался привлекателенъ въ XVII столѣтіи: — 12 лѣтъ онъ уже убѣгаетъ изъ родительскаго дома въ монастырь, и тамъ, несмотря на свой отроческій возрастъ, удивляетъ всю братію своими подвигами. Вызванный родными изъ монастыря и вынужденный ими жениться, онъ черезъ нѣсколько лѣтъ снова возвращается въ монастырь, и удаляется на Бѣлое море, гдѣ видѣли его сначала простымъ инокомъ въ Анзерскомъ скиту, а потому игуменомъ въ Кожеезерскомъ монастырѣ. Въ 1646 году, случайно попавъ въ Москву по дѣламъ своего монастыря, Никонъ обращаетъ на себя вниманіе царя Алексѣя Михайловича, котораго поражаетъ его величавая наружность и необычайная сила рѣчи. Онъ уже не возвращается на сѣверъ, и черезъ два года, въ 1648 г., видимъ его митрополитомъ новгородскимъ, а четыре года спустя — патріархомъ (съ 25 іюля 1652 года). Съ первой минуты, когда судьба выдвигаетъ Никона на видное историческое поприще, и до послѣдней минуты пребыванія на немъ, Никонъ постоянно является намъ замѣчательнымъ историческимъ дѣятелемъ, энергическимъ администраторомъ, человѣкомъ, одареннымъ желѣзною волею и способнымъ неутомимо, непреклонно стремиться къ достиженію извѣстныхъ избранныхъ цѣлей. Одною изъ такихъ цѣлей являлись для Никона нѣкоторыя преобразованія въ церковномъ устройствѣ и крайняя необходимость въ исправленіи текста церковныхъ книгъ, которыя благодаря невѣжеству справщиковъ, болѣе и болѣе начинали пестрѣть промахами и погрѣшностями всякаго рода, намѣренными и ненамѣренными. Особенными, искаженіямъ и поврежденіямъ отъ справщиковъ подверглись богослужебныя книги, напечатанныя при патріархѣ Іосифѣ. И вотъ, не смотря на ропотъ духовенства и на всевозможныя препятствія, Никонъ рѣшительно принялся за дѣло исправленія и приступилъ къ нему немедленно. Въ 1754 году собираетъ онъ соборъ, на которомъ рѣшаютъ править книги по древне-славянскимъ и греческимъ рукописямъ; тотчасъ послѣ того, по его приказанію, изъ разныхъ монастырскихъ и церковныхъ библіотекъ со всей Россіи высылаются всѣ необходимыя для исправленія книгъ древнѣйшія рукописи. Но Никонъ не довольствуется этимъ: онъ назначаетъ уже извѣстнаго намъ ученаго, Епифанія Славинецкаго, справщикомъ книгъ при московской типографіи и ставитъ его въ числѣ нѣсколькихъ другихъ иноковъ для того, чтобы ихъ трудами нѣкоторыя, наиболѣе искаженныя богослужебныя книги могли быть вновь переведены съ греческаго. Съ другой стороны онъ отправляетъ на Востокъ и на Аѳонскую гору іеромонаха Арсенія Суханова, для покупки новаго запаса древнихъ рукописей 1), которыя бы могли служить къ пополненію уже отовсюду собраннаго въ Москву рукописнаго матерьяла. Наконецъ и самъ Никонъ зорко слѣдитъ за дѣломъ исправленія, наблюдаетъ, разспрашиваетъ, учится у Епифанія Славинецкаго и совѣтуется съ нимъ, беретъ къ себѣ въ помощники и другаго ученаго, Арсенія Грека, котораго вызываетъ даже изъ ссылки 2). Въ 1655 и въ 1656 гг. опять Никонъ собираетъ соборы; исправленный имъ Служебникъ уже готовъ и отпечатанъ, уже разсылается всюду по церквамъ, а прежнія старо-печатныя книги всюду, по повелѣнію патріарха, отбираются.
1) Арсеній Сухановъ привезъ въ Москву болѣе 500 рукописей, которыя и послужили главною основой патріаршей библіотекѣ, нынѣ извѣстной подъ названіемъ Сѵнодальной.
2) Арсеній Грекъ прибылъ въ Москву въ 1649 году, но скоро навлекъ на себя своею ученостью подозрѣніе со стороны патріарха Іосифа и другихъ приверженцевъ старины и былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь.
Съ этой минуты, для приверженцевъ старины уже не остается болѣе никакого сомнѣнія на счетъ того, что дѣйствительно наступаетъ для Россіи какой-то новый и страшный своею новизною періодъ. Уже на соборѣ 1654 года, нѣкоторыя изъ духовныхъ лицъ (между прочимъ Павелъ, епископъ коломенскій) отказались подписаться подъ рѣшеніями собора; когда же, послѣ третьяго собора (1656 г.), стали всюду разсылать новыя, а отбирать старыя книги, расколъ обнаружился явно и на словахъ, въ нескончаемомъ рядѣ обвиненій и челобитныхъ царю противъ патріарха Никона, и даже на дѣлѣ, съ оружіемъ въ рукахъ: — въ 1656 г. начался тотъ знаменитый мятежъ Соловецкаго монастыря, который кончился 20 лѣтъ спустя, въ 1676 году. Соловецкіе монахи отказывались принимать новыя, никоновскія книги и, пользуясь неприступнымъ положеніемъ своей обители, цѣлыя двадцать лѣтъ отсиживались за стѣнами ея отъ царскихъ воеводъ. За соловецкимъ мятежомъ послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ смутъ и волненій, въ основѣ которыхъ лежало то же недовольство современнымъ порядкомъ вещей, выражавшееся въ стремленіи раскольниковъ отстоять отживающую старину противъ напора исторической необходимости.
Первыми расколоучителями, конечно, должны были явиться тѣ самые люди, которые при патріархѣ Іосифѣ стояли во главѣ книжнаго дѣла: духовникъ царя, С_т_е_п_а_н_ъ В_о_н_и_ф_а_н_т_ь_е_в_ъ, ключарь успенскаго собора, І_о_а_н_н_ъ Н_е_р_о_н_о_в_ъ, благовѣщенскій дьяконъ Ѳ_е_о_д_о_р_ъ, протопопы: А_в_в_а_к_у_м_ъ изъ Юрьевца, Л_о_г_г_и_н_ъ изъ Мурома, Д_а_н_і_и_л_ъ изъ Костромы, начальникъ печатнаго двора при патріархѣ Іосифѣ, князь Львовъ, священники Н_и_к_и_т_а и Л_а_з_а_р_ь. Очутившись въ положеніи людей отсталыхъ, они зорко слѣдили за дѣйствіями новыхъ дѣятелей, и совершенно чистосердечно предавали проклятію ихъ дѣятельность, въ которой они съ нелицемѣрнымъ религіознымъ ужасомъ замѣчали неслыханныя дотолѣ церковныя «новшества». Они стали подавать царю челобитныя, умоляя его защитить погибающее православіе, являлись на печатный дворъ ругаться съ новыми справщиками, кричали о томъ, что древнее благочестіе поколеблено, публично хулили патріарха и съ фанатическимъ раздраженіемъ лѣзли на столкновеніе съ Никономъ 1). Никонъ не уклонился отъ борьбы и легко поддался соблазну крутыхъ мѣръ: начались заточенія и ссылки, истязанія и преслѣдованія, которымъ обрадовались фанатики, какъ мученичеству, какъ желанному страданію за древнее благочестіе. Оставленіе Никономъ патріаршества и восьмилѣтнее отсутствіе его послужило на пользу усиленія партіи старины. Одинъ изъ ревностнѣйшихъ расколоучителей, протопопъ А_в_в_а_к_у_м_ъ 2), былъ даже возвращенъ изъ дальней ссылки, и могъ открыто въ самой Москвѣ проповѣдывать противъ исправленій и Никона, котораго называлъ «волкомъ, сыномъ геенны, антихристомъ, злѣйшимъ изъ еретиковъ». Въ числѣ почитателей Аввакума видимъ знатнѣйшихъ бояръ и боярынь, даже просвѣщеннаго Ѳеодора Ртищева: самъ благодушный царь Алексѣй Михайловичъ принялъ его съ ласкою, уговаривалъ смягчиться, соединиться съ церковью, и, по собственному признанію Аввакума, чуть не поколебалъ его своею добротою… Но возвращеніе было невозможно для Аввакума и его сторонниковъ: великій московскій соборъ, осудившій Никона за высокомѣріе и властолюбіе его, за способъ дѣйствій, несогласный съ его саномъ, въ то же время одобрилъ всѣ его церковныя исправленія, одобрилъ книги С_к_р_и_ж_а_л_ь и Ж_е_з_л_ъ П_р_а_в_л_е_н_і_я, написанныя противъ раскола Симеономъ Полоцкимъ, и подвергъ строгому допросу главныхъ противниковъ церкви. Нѣкоторые изъ нихъ принесли покаяніе и примирились съ новшествами; но Аввакумъ, Лазарь и Ѳеодоръ, какъ нераскаянные, преданы анаѳемѣ и сосланы въ дальнія ссылки… Нѣсколько позже, они достигаютъ той цѣли, къ которой такъ пламенно стремились — и погибаютъ на кострѣ (1681).
1) Знаменскій. Руковод. къ русск. церковн. исторіи 299.
2) Род. между 1605—1610 гг. «въ нижегородскихъ предѣлахъ», слѣдовательно былъ землякомъ Никона.

Памятникомъ этой первой борьбы, зачавшейся при первомъ вѣяніи новизною, въ средѣ московскаго общества конца XVII в., и охватившей позднѣе всю Россію, до крайнихъ ея предѣловъ, осталась цѣлая литература раскольническихъ челобитныхъ и сочиненій, вызвавшая и цѣлый рядъ отвѣтовъ со стороны защитниковъ новизны. Не входя въ ближайшее разсмотрѣніе этого обширнаго литературнаго отдѣла, который уже и сдѣлался у насъ предметомъ спеціальнаго изученія, мы однакоже долгомъ считаемъ сказать нѣсколько словъ о томъ произведеніи раскольнической литературы, которое превосходно рисуетъ типъ одного изъ первыхъ и важнѣйшихъ расколоучителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и яркую картину московскаго общества конца XVII вѣка. Мы говоримъ о «Ж_и_т_і_и п_р_о_т_о_п_о_п_а А_в_в_а_к_у_м_а, и_м_ъ с_а_м_и_м_ъ н_а_п_и_с_а_н_н_о_м_ъ» — одномъ изъ тридцати слишкомъ сочиненій, оставленныхъ этимъ расколоучителемъ. Не смотря на крайнюю непослѣдовательность изложенія, Аввакумъ съумѣлъ однакоже въ своей автобіографіи оставить намъ такой литературный памятникъ, который и въ настоящее время нельзя читать безъ особеннаго увлеченія. Грубый, простой разсказъ протопопа, пересыпанный бранью противъ патріарха и никоніанъ, испещренный то ужасными и трагическими, то грязными и возмутительными подробностями современнаго быта, поражаетъ читателя восторженною, горячею настроенностью автора, готовностью постоять до конца за идею, одинаковымъ равнодушіемъ къ земнымъ и благамъ, и бѣдствіямъ. Скорбная, нескончаемая повѣсть страданій несчастнаго протопопа и семьи его за дѣло, которое онъ считаетъ правымъ, переполнена чертами истинно-геройскаго мужества — и слѣпой приверженностью къ самымъ смѣшнымъ, дѣтскимъ предразсудкамъ: высоко-поэтическими описаніями различныхъ проявленій религіозной восторженности — и наивными эпизодами, явно свидѣтельствующими объ ограниченности, о неразвитости истиннаго религіознаго чувства и пониманія, погрязнувшаго въ мелочахъ узкаго, внѣшняго, обрядоваго консерватизма. Этотъ консерватизмъ, основанный на слѣпомъ уваженіи къ старинѣ, на безусловномъ отрицаніи новшествъ, на голословномъ утвержденіи: ,,до насъ положено — лежи оно такъ во вѣки вѣковъ" — представляетъ собой преобладающую, главную черту всей Аввакумовской книги, невольно обращающею на себя вниманіе читателя. Въ каждой строкѣ автобіографіи Аввакума читателю представляется живой образъ того поколѣнія, которое вступило въ борьбу съ новыми идеями при Никонѣ и уступило только желѣзной волѣ Петра. Уступило, не давъ ни побѣдить, ни убѣдить себя, но отрекшись отъ новаго типа русской жизни, но предавъ анаѳемѣ всѣ ея проявленія, дурныя и хорошія, вредныя и полезныя. Уступило — уклонившись въ расколъ, разорвавъ связи съ обществомъ, убѣгая отъ соблазна въ дремучіе лѣса и необитаемыя пустыни дикаго сѣвера или выселяясь за границы русской земли, на враждебныя намъ окраины сосѣднихъ государствъ.
Слѣдя однакоже за энергическою дѣятельностью Никона, противуполагая Никона и его приверженцевъ — Аввакуму и партіи первыхъ расколоучителей, мы приходимъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, что между этими первыми, случайно столкнувшимися защитниками прошлаго и дѣятелями грядущаго было еще очень много общихъ, подобныхъ чертъ, и что ожесточеніе, приданное борьбѣ уже на первыхъ порахъ, было въ значительной степени дѣломъ личнаго характера борцовъ, явившихся во главѣ столкнувшихся партій. Всматриваясь ближе въ нравственный типъ Никона, мы видимъ въ немъ много чертъ, общихъ съ типомъ Аввакума, неразрывно связанныхъ съ тою самою стариною, противъ которой онъ такъ усердно, повидимому, ратовалъ. Никонъ, — если станемъ разсматривать его внѣ того круга церковныхъ исправленій, внѣ области тѣхъ новшествъ, которыя онъ вносилъ въ богослуженіе и книги, — явится каждому изъ насъ никакъ не однимъ изъ тѣхъ новыхъ, передовыхъ дѣятелей, которые выступили послѣ него на то же поприще и подготовили общество къ эпохѣ преобразованія… Напротивъ, онъ явится намъ также сторонникомъ старины, въ которой онъ искалъ идеаловъ для измѣненія существующаго порядка вещей, отъ которой онъ заимствовалъ и наивную вѣру въ убѣдительность доводовъ, подкрѣпленныхъ колодкой, цѣпями и ссылкой. Приверженность къ старинѣ высказывалась въ Никонѣ и тѣмъ, что, вводя свои церковныя новшества, онъ въ то же время возставалъ противъ новыхъ государственныхъ понятій и съ суевѣрною нетерпимостью относился къ первымъ проблескамъ европейской цивилизаціи: жегъ въ боярскихъ домахъ картины и органы, рѣзалъ въ куски ливреи, сдѣланныя по западному образцу для домовыхъ слугъ. Избытокъ личной силы и характера долженъ былъ, при этомъ настроеніи, поставить его въ самое невыгодное положеніе между двумя противоположными партіями, которыя «богатырю-патріарху» (какъ справедливо называетъ его г. Соловьевъ) удалось только рѣзче, опредѣленнѣе отдѣлить одну отъ другой. Но дальнѣйшій ходъ историческихъ событій вскорѣ выдвигаетъ на мѣсто Никона другихъ, гораздо менѣе сильныхъ и страшныхъ, но гораздо болѣе искусныхъ и опасныхъ борцовъ. Въ то время, когда власти свѣтскія и духовныя напрасно пытаются образумить раскольниковъ то ласкою, то преслѣдованіями и даже истязаніями, во главѣ общества московскаго и въ средѣ духовенства являются новые люди, которые вступаютъ въ новую и притомъ единственно-возможную борьбу съ расколомъ и приверженцами старины: — главнымъ оружіемъ этихъ борцовъ является слово, опирающееся постоянно на науку, а иногда и колкая сатира, всегда мѣтко достигающая своей цѣли. Въ ряду этихъ новыхъ людей нельзя не отвести первое мѣсто знаменитому іеромонаху, С_и_м_е_о_н_у П_о_л_о_ц_к_о_м_у, который въ числѣ юго-западныхъ ученыхъ, послѣ Галятовскаго и Лазаря Барановича, пользовался наибольшею извѣстностью. Въ то время, когда путь въ Москву открылся для кіевскихъ. ученыхъ, когда тамъ стали нуждаться въ трудахъ ихъ и цѣнить ихъ, въ числѣ другихъ, въ 1665 году, прибылъ туда и Симеонъ Полоцкій.
Симеонъ Емельяновичъ Петровскій-Ситніановичъ (род. въ апрѣлѣ 1629 г., ум. 25 авг. 1680 г.) происхожденіемъ былъ вѣроятно бѣлоруссъ. Неизвѣстно, какъ звали его въ мірѣ: имя Симеона получилъ онъ уже въ монашествѣ. Неизвѣстно также и кто были его родители, и гдѣ получилъ онъ первоначальное образованіе. Предполагаютъ, что закончилъ онъ его въ знаменитой Кіево-Могилянской коллегіи. Точно также не имѣемъ мы никакихъ вѣрныхъ извѣстій и о дальнѣйшей судьбѣ Симеона, по выходѣ изъ училища; предполагаютъ однакоже, что по окончаніи ученія онъ оставилъ Кіевъ, принялъ монашество подъ именемъ Симеона въ Полоцкомъ Богоявленскомъ братскомъ монастырѣ и сдѣланъ д_и_д_а_с_к_а_л_о_м_ъ (преподавателемъ) въ тамошнемъ братскомъ училищѣ. Еще до пріѣзда въ Москву, во время Ливонской войны, онъ сталъ уже лично извѣстенъ царю Алексѣю Михайловичу, и потому неудивительно, что въ 1672 году царь назначаетъ его въ воспитатели къ юному царевичу Ѳеодору Алексѣевичу.
Дѣятельность Симеона Полоцкаго, во время пребыванія его въ Москвѣ, является на столько же общественною, на сколько и литературною, и ее нельзя не разсматривать съ этихъ обѣихъ сторонъ; нельзя въ то же время не сознаться, что и съ той, и съ другой стороны дѣятельность Симеона Полоцкаго является намъ не только весьма важною, но и привлекательною, и даетъ ему полное право на уваженіе потомства.
Уже самый выборъ Полоцкаго въ наставники царевича Ѳеодора былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ признаковъ наступленія новаго времени. До той поры исключительными наставниками царевичей бывали подъячіе, которые весьма просто учили ихъ грамотѣ, читать и писать, по Часослову и Псалтирю, и по а_з_б_у_к_о_в_н_и_к_а_м_ъ, въ которыхъ расположены были въ азбучномъ порядкѣ истолкованія кое-какихъ, не совсѣмъ понятныхъ словъ, попадающихся въ книгахъ. Учителемъ царевича, до Полоцкаго, былъ тоже подъячій посольскаго приказа, Памфилъ Бѣляниковъ. Но въ правленіе царя Алексѣя Михайловича на этомъ уже не могло заключиться воспитаніе царевича: — и вотъ ему даютъ въ наставники Симеона Полоцкаго, который не только представлялъ собою ходячую энциклопедію современной образованности, но еще при этомъ былъ большой мастеръ и легко передать, и красиво изложить знанія свои, и пріохотить къ наукѣ. Занимаясь воспитаніемъ царевича, онъ въ то же время и безпрестанно успѣвалъ говорить проповѣди, писалъ стихи по поводу каждаго, сколько нибудь замѣчательнаго событія, сочинялъ драмы для домашняго дворцоваго театра, велъ полемику съ раскольниками, заботился о распространеніи образованности въ Россіи — однимъ словомъ, не оставлялъ безъ отвѣта ни одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, разрѣшенія которыхъ настоятельно требовала живая современность.

Главнѣйшимъ образомъ проповѣдническая дѣятельность его была направлена противъ суевѣрія, раскола и небреженія въ воспитаніи. Памятниками этой дѣятельности осталось его сочиненіе, подъ заглавіемъ: «Ж_е_з_л_ъ П_р_а_в_л_е_н_і_я», заключающее въ себѣ обличеніе раскольничьихъ мнѣній, написанное по поводу челобитныхъ, поданныхъ двумя изъ расколоучителей, Никитою и Лазаремъ; проповѣди же свои Симеонъ Полоцкій собралъ въ два обширные сборника подъ заглавіемъ «Обѣдъ душевный» и «Вечеря душевная». Несмотря на эти вычурныя заглавія сборниковь, напоминающія общую искусственность юго-западной учености, проповѣди Симеона Полоцкаго, написанныя языкомъ простымъ и гладкимъ, вовсе не отличаются запутанностью и риторизмомъ. Болѣе всего любитъ онъ вставлять въ свою проповѣдь разсказы и эпизоды, заимствованные изъ жизни или изъ литературы, и могущіе служить ему подтвержденіемъ высказываемой мысли. Многія изъ этихъ про-изведеній его драгоцѣнны по отношенію къ описанію современныхъ народныхъ суевѣрій, обычаевъ и предразсудковъ. Но гораздо важнѣе для насъ то, что съ своей проповѣднической каѳедры Симеонъ Полоцкій не переставалъ утверждать смѣло, къ великому ужасу приверженцевъ старины: и «зло, и благо нисходятъ на чадъ не по естеству отъ родителей, а отъ ученія. Учиться же слѣдуетъ каждому: и монаху, и мірянину; чтеніе божественныхъ писаній всѣмъ полезно: и мужчинамъ, и женщинамъ».
И въ присутствіи патріарховъ восточныхъ, пріѣхавшихъ въ Москву для суда надъ патріархомъ Никономъ, тотъ же неутомимый Симеонъ Полоцкій въ рѣчи своей обращается къ царю съ моленіемъ: «положи въ сердцѣ твоемъ училища — греческія, славянскія и иныя — назидати, учащихся (въ нихъ) умножати, учителей взыскати».
И голосъ его не остается «голосомъ вопіющаго въ пустынѣ». Училища начинаютъ умножаться. Прихожане церкви Іоанна Богослова получаютъ отъ царя Алексѣя Михайловича дозволительную грамату на основаніе славяно-греко-латинскаго училища. Нѣсколько позже, воспитанный Симеономъ Полоцкимъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ заводитъ въ Москвѣ еще одно училище, при типографіи, которое по тому самому и получаетъ названіе т_и_п_о_г_р_а_ф_с_к_а_г_о (въ 1679). Вскорѣ послѣ, того царь хочетъ даже возвысить его до значенія академіи; но смерть царя и стрѣлецкіе бунты препятствуютъ исполненію этихъ плановъ, хотя, повидимому, все уже было готово для ихъ приведенія въ исполненіе — даже грамата объ учрежденіи академіи была уже написана Симеономъ Полоцкимъ. Но дѣло не могло надолго оставаться нерѣшеннымъ: потребность въ высшемъ учебномъ заведеніи уже чувствовалась многими, и потому, какъ только пріутихли стрѣлецкія смуты, такъ снова мысль объ учрежденіи академіи всплыла наружу. Ученикъ Симеона Полоцкаго, настоятель Заиконоспасскаго монастыря, Сильвестръ Медвѣдевъ, вмѣстѣ съ чудовскимъ монахомъ Каріономъ Истоминымъ, въ стихотворномъ посланіи, обратились къ правительницѣ, царевнѣ Софіи, и просили ее «о водвореніи наукъ въ Россіи». Вскорѣ послѣ того, когда прибыли, въ 1685 году, въ Россію двое ученыхъ грековъ — братья Л_и_х_у_д_ы (Іоанникій и Софроній) — при московскомъ Заиконоспасскомъ монастырѣ, около Воскресенскихъ воротъ, открыта была первая въ Россіи духовная, славяно-греко-латинская академія.
Но все это совершалось медленно, среди тысячи препятствій, противуполагаемыхъ невѣжествомъ и фанатизмомъ, которые старались всѣми силами запутать дѣло, задержать быстрое введеніе въ Россію новой европейской науки, обвинить новыхъ учителей въ ереси и неуваженіи къ православію. Такого рода обвиненіямъ подвергался и Симеонъ Полоцкій, и сами братья Лихуды… Но исторія все же шла своимъ неуклоннымъ путемъ къ великой эпохѣ преобразованій. Иноземнаго страшились и избѣгали, отъ иновѣрцевъ старались оберечь себя и оградить; а иновѣрцы толпами идутъ въ Россію въ видѣ наемныхъ офицеровъ, мастеровъ всякаго рода, заводчиковъ, лѣкарей. Они селятся и въ самыхъ стѣнахъ, и подъ стѣнами Бѣлокаменной. Притомъ же отъ многосторонней, до безконечнаго разнообразія развившейся цивилизаціи запада и мудрено было защититься, она уже задолго до конца XVII столѣтія «закинула свои сѣти на русскихъ людей, приманивая ихъ къ себѣ новыми для нихъ удовольствіями и удобствами жизни. Часы, картины, покойная карета, музыкальный инструментъ, сценическое представленіе — вотъ чѣмъ сначала мало-по-малу, подготовлялись русскіе люди къ преобразованіямъ, какъ дѣти приманиваются игрушками къ ученію» 1).
1) Соловьевъ XIII, стр. 170, 171, 217, 218.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ШЕСТНАДЦАТОЙ.
правитьИзъ житія протопопа Аввакума,
правитьРожденіе мое въ нижегородскихъ предѣлахъ, за Кудмою рѣкою, въ селѣ Григоровѣ. Отецъ ми бысть священникъ Петръ, мати Марія, инока Марѳа. Отецъ же мой прилежаше питія хмѣльнаго; мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божію. Азъ же нѣкогда видѣхъ у сосѣда скотину умершу и, той нощи возставши, предъ образомъ плакався довольно о душѣ своей, поминая смерть, яко и мнѣ умереть; и съ тѣхъ мѣстъ обыкохъ по вся нощи молитися. Потомъ мати моя овдовѣла и я осиротѣлъ молодъ, и отъ своихъ соплеменниковъ во изгнаніи быхомъ. Изволила же мати моя меня женить. Азъ же пресвятѣй Богородицѣ молихся, да дастъ ми жену помощницу ко спасенію. И въ томъ же селѣ дѣвица, сиротина-жъ, безпрестанно обыкла ходити въ церковь, имя ея Анастасія. Отецъ ея былъ купецъ Марко, богатъ гораздо и, егда умеръ, послѣ его все истощилось. Она же, въ скудости живяше и моляшеся Богу, да сочетается за меня совокупленіемъ брачнымъ; и бысть по волѣ Божіей тако. По семъ мати моя отшедъ къ Богу въ подвизѣ велицѣ. Азъ же, отъ изгнанія преселихся въ ино мѣсто, рукоположенъ въ діаконы 20 лѣтъ съ годомъ и по дву лѣтѣхъ въ попы поставленъ.
А егда въ попѣхъ былъ, тогда имѣлъ у себя дѣтей духовныхъ много: по се время 1) сотъ съ пять или съ шесть (и случилось однажды, когда Аввакумъ былъ недоволенъ своими отношеніями къ паствѣ, что) пришедъ въ свою избу, плакався предъ образомъ Господнимъ, яко и очи опухли; и моляся прилежно, да отлучитъ мя Богъ отъ дѣтей духовныхъ, понеже бремя тяжко, неудобь носимо. И падохъ на землю, на лицѣ своемъ рыдаше горьцѣ; и забыхся лежа, невѣмь, какъ плачу. А очи сердечніи при рѣкѣ Волгѣ; вижу: плывутъ стронно два корабля златы и веслы на нихъ златы, и шесты златы, и все злато; по единому кормщику на нихъ сидѣльцевъ; и я спросилъ: «чіе корабли?» А они отвѣщали: «Лукинъ и Лаврентьевъ». Сіи быша ми духовніи дѣти, меня и домъ мой поставили на путь спасенія и скончалися богоугодно. А се потомъ вижу: третій корабль, не златомъ украшенъ, но разными пестротами, красно и бѣло, и сине, и черно и пепелно и его же умъ человѣчъ не вмѣсти красоты его и доброты. Юноша свѣтелъ, на кормѣ сидя, прави, и я вскри чалъ: «чей корабль?» И сидяй на немъ отвѣщалъ: «твой корабль; доплывай на немъ съ женою и дѣтьми, коли докучаешь». И я, вострепетавъ и сѣдше, разсуждаю: «что се видимое и что будетъ плаваніе?»
1) Т. е. время написанія біографіи.
А се по малѣ времени, — по писанному, — объяша мя болѣзни смертныя, бѣды адовы обыдоша мя; скорбь и болѣзнь обрѣтохъ. Инъ начальникъ во ино время на мя разсвирѣпѣлъ. Прибѣжавъ ко мнѣ въ домъ, билъ меня и у руки отгрызъ персты, яко песъ, зубами; и егда исполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустилъ изъ зубовъ своихъ, и, покиня меня, пошелъ въ домъ свой. Азъ же, благодаря Бога, завертѣвъ руку платомъ, пошелъ къ вечерни; и егда шелъ путемъ, наскочилъ на меня онъ же паки съ двѣмя малыми пищалями, и, близь меня бывъ, запалилъ изъ пистоля и божіею волею на полкѣ порохъ пыхнулъ, а пищаль не стрѣлила. Онъ же бросился на землю, и изъ другія паки запалилъ также, и божія воля учинила также: и та пищаль не стрѣлила. Азъ прилежно идучи, молюсь Богу, единою рукою осѣнилъ его и поклонился ему; онъ меня лаетъ, а я ему рекъ: «благодать въ устнѣхъ твоихъ, Иванъ Родіоновичъ, да будетъ». По семъ дворъ у меня отнялъ и меня выбилъ, все ограбя, и на дорогу хлѣба не далъ. Въ то же время родился сынъ мой Прокопій, который сидитъ съ матерію въ землѣ закопанъ. Азъ же взявъ клѣтку, а мати некрещенаго младенца, побрели, аможе Богъ наставить, и на пути крестили, якоже Филиппъ каженника древле. Егда же азъ прибрелъ къ Москвѣ, къ духовнику, протопопу Стефану и къ Неронову протопопу Іоанну, они же обо мнѣ царю возвѣстиша, и государь меня началъ съ тѣхъ поръ знати. Отцы же грамотою па-ки послали меня на старое мѣсто, и я притащился: анъ и стѣны раззорены моихъ хра-минъ, и я паки завелся, и діаволъ паки воздвигъ на меня бурю.
По семъ (т.-е. по вторичномъ переселеніи въ Москву изъ Юрьевца) Никонъ, другъ нашъ, привезъ изъ Соловковъ Филиппа митрополита (мощи), и прежде его пріѣзду духовникъ Стефанъ, моля Бога и постяся седмицу съ братіею и я съ ними тутъ же о патріархѣ (молился), да дастъ Богъ пастыря ко спасенію душъ нашихъ, и съ митрополитомъ казанскимъ, написавъ челобитную за руками подали царю и царицѣ о духовникѣ Стефанѣ, чтобы ему быть въ патріархахъ. Онъ же, не восхотѣвъ самъ, и указалъ на Никона митрополита. Царь его и послушалъ… Егда же Никонъ пріѣхалъ, съ нами яко лисъ, челомъ да здорово: вѣдаемъ, что быть ему въ патріархахъ и чтобы откуля помѣшка какова не учинилась. Много о тѣхъ козняхъ говорить. Егда поставили патріархомъ, такъ друзей не сталъ и въ крестовую пускать, и сей ядъ отрыгнулъ.
Въ постъ великій прислалъ память къ Казанской (церкви) Никонъ къ Неронову Іоанну. А мнѣ (Нероновъ) отецъ духовный былъ, я у него все и жилъ въ церкви; егда куда отлучитси, азъ вѣдаю церковь: любо мнѣ у Казанскія, то и держался — челъ народу книги, много людей приходило. Въ памяти Никонъ пишетъ годъ число «по преданію св. апостолъ и св. отецъ не подобаетъ въ церкви метанія творити на колѣну, но въ поясъ бы вамъ творити поклоны, еще же и тремя персты бы крестились». Мы же задумалися, сошедшися между собою; видимъ, яко зима хощетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ приказалъ 1) мнѣ церковь, а самъ скрылся въ Чудовъ, седмицу въ палаткѣ молился, и сномъ ему отъ образа гласъ былъ во время молитвы: «время приспѣ страданія, подобаетъ вамъ неослабно страдати». Онъ же мнѣ, плачучи, сказалъ таже коломенскому епископу Павлу, его же Никонъ напослѣдокъ огнемъ жжегъ въ новгородскихъ предѣлахъ, потомъ Даніилу, костромскому протопопу, тоже сказалъ и всей братіи. Мы съ Даніиломъ написахомъ изъ книгъ выписки о сложеніи перстъ и о поклонѣхъ и подали Государю. Много писано было. Онъ же, не вѣмъ гдѣ, скрылъ ихъ мнитъ ми ся, Никону отдалъ. Послѣ того вскорѣ схвативъ Никонъ Даніила въ монастырѣ затверенеми вороты, при царѣ остригъ голову и содравъ однорядку, ругая, отвелъ въ Чудовъ въ хлѣбню, и, муча много, сослалъ въ Астрахань; вѣнецъ терновъ на главу тамъ ему возложили, въ земляной тюрьмѣ уморили… Тоже меня взяли отъ всенощной. Борисъ Нелединскій со стрѣльцами, человѣкъ со мною до 60 взяли, ихъ въ тюрьму отвели, а меня на патріарховѣ дворѣ на цѣпь посадили ночыо. Егда же разсвѣтало въ день недѣльный, посадили меня на телегу и растянули руки и везли отъ патріархова двора до Андроньева монастыря и тутъ на цѣпи кинули въ темную палатку, ушла въ землю и сидѣлъ три дня, не ѣлъ не пилъ во тьмѣ, сидя, кланяяся на цѣпи, не знаю на востокъ, не знаю на западъ. Никто ко мнѣ не при-ходилъ, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же и въ третій день пріалченъ, сирѣчь ѣсть захотѣлъ, и послѣ вечерни ста предо мною невѣмъ ангелъ, невѣмъ человѣкъ, — и по се время не знаю, — токмо въ потемкахъ молитву сотворилъ и, взявъ меня за плечо, съ цѣпію къ лавкѣ привелъ, и посадилъ, и ложку въ руки далъ, хлѣбца немножко и штецъ далъ похлебать, зѣло превкусны хороши, и реклъ мнѣ: «полно; довлѣетъ ти ко укрѣпленію»… На утро архимантритъ съ братіею пришли и вывели меня; журятъ мнѣ, что патріарху не покорился, а я отъ писанія его браню да лаю. Сняли большую цѣпь, да малую наложили, отдали чернцу подъ началъ: велѣли волочить въ церковь. У церкви волосы дерутъ, и подъ бока толкаютъ, и за чепь трогаютъ, и въ глаза плюютъ. Богъ ихъ проститъ въ сей вѣкъ и въ будущій! Не ихъ то дѣло, но сатаны лукаваго. Сидѣлъ тутъ я четыре недѣли.
1) Т. е. поручилъ.
По семъ паки меня изъ монастыря водили пѣшаго на патріарховъ дворъ; также, руки растеня, и стязався много со мною, паки также отвели. Тоже въ Никитинъ день ходъ со кресты, а меня паки на телегѣ везли противъ крестовъ. И привезли къ соборной церкви стричь, и держали въ обѣдню на порогѣ долго. Государь съ мѣста сошелъ и приступя къ патріарху, упросилъ не стричь: и отвели въ сибирскій приказъ и послали меня въ Сибирь съ женою и дѣтьми, и колико дорогою нужды бысть, того всего много говорить, развѣ малая часть помянуть. Протопопица младенца родила, больную въ телегѣ и повезли до Тобольска; 3,000 верстъ недѣль съ тринадцать волокли телегами и водою, и саньми половину пути.
По семъ указъ пришелъ: велѣно меня изъ Тобольска на Лену везти за сіе, что браню отъ писанія и укоряю ересь Никонову. Таже сѣлъ опять на корабль свой, еже показалъ ми, — что выше сего рекохъ, — поѣхалъ на Лену. А какъ пріѣхалъ въ Енисейскъ, другой указъ пришелъ: велѣно въ Даурію вести, — двадцать тысячъ (верстъ) и больше отъ Москвы, — и отдать меня Аѳанасію Пашкову въ полкъ. Людей съ нимъ было 600 человѣкъ, и грѣхъ ради моихъ, суровъ человѣкъ; безпрестанно людей жжетъ и мучитъ, и бьетъ: и я его много уговаривалъ да и самъ въ руки попалъ… Егда поѣхали изъ Енисейска, какъ буде въ большой Тунгускѣ рѣкѣ… на Долгомъ порогѣ сталъ (Пашковъ) меня изъ дощеника выбивать: «для тебя де дощеникъ худо идетъ; еретикъ де ты; поди де по горамъ, а съ козаками не ходи». О горе стало! Горы высоки, дебри непроходимы, утесъ каменной, яко стѣна стоитъ — и поглядѣть заломя голову; въ горахъ тѣхъ обрѣтаются зміи великіе; въ нихъ же витаютъ гуси и утицы — періе красное, вороны черные и галки сѣрыя; въ тѣхъ горахъ орлы, и соколы, и кречеты, и курята индѣйскія, и бабы, и лебеди, и иныя дикія, многое множество, птицы разныя. На тѣхъ же горахъ гуляютъ звѣри многіе: дикія козы, и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикіе въ очію нашу, а взять нельзя. На тѣ горы выбивалъ меня Пашковъ со звѣрьми и птицами витати, и азъ ему малое писаньице написалъ, сице начало: «человѣче убойся Бога, сидящаго на херувимѣхъ и призирающаго въ бездны, Его же трепещутъ небесныя силы и вся тварь со человѣки, единъ ты презираешь» и прочая. Тамъ многонько писано, и послалъ къ нему. А и бѣгутъ человѣкъ съ пятьдесятъ: взяли мой дощеникъ и помчали къ нему… Онъ со шпагою стоитъ и дрожитъ; началъ мнѣ говорить: «попъ или распопъ?» И азъ отвѣщалъ! «азъ есмь Аввакумъ, протопопъ; говори: что тебѣ дѣло до мене?» Онъ же рыкнулъ, яко дикій звѣрь, и ударилъ меня по щекѣ, таже по другой, и паки въ голову и сбилъ меня съ ногъ, и чепь ухватя, лежачаго по спинѣ ударилъ трижды, и разболокши по той же спинѣ 72 удара кнутомъ. И я говорю: «Господи Іисусе Христе, Сынъ Божій! помогай мнѣ». Такъ горько ему, что не говорю: «пощади». Ко всякому удару молитву говорилъ, да среди побой вскричалъ я къ нему: «полно бить-то»; такъ онъ велѣлъ перестать. И я промолвилъ ему: «за что ты меня бьешь: знаешь-ли?» И онъ велѣлъ паки бить по бокамъ; и опустили: я задрожалъ да и упалъ, и онъ паки велѣлъ меня въ казенный дощеникъ оттащить: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень была, дождь на меня шелъ всю нощь, подъ капелью лежалъ…
По семъ привезли въ Братской острогъ и въ тюрьму кинули, соломки дали. И сидѣлъ до Филиппова поста въ студеной башнѣ; тамъ зима въ тѣ поры живетъ, да Богъ грѣлъ и безъ платья: что собачка на соломкѣ лежу; коли покормятъ, коли нѣтъ; мышей много было, я ихъ скуфьею билъ, — и батожка не дадутъ дурачки! Все на брюхѣ лежалъ, спина гнила, блохъ да вшей было много. Хотѣлъ на Пашкова кричать: «прости»; но воля Божія возбранила; велѣно терпѣть. Любилъ протопопъ со славными знаться, люби же и терпѣть, горемыка, до конца; писано: «не начный блаженъ, но скончавый».


Образцомъ учености московскихъ грамотѣевъ начала XVII вѣка можетъ служить споръ по поводу катехизиса Лаврентія Зизанія. Лаврентій Зизаній Тустановскій, протопопъ Корецкій, въ февралѣ 1627 года привезъ въ Москву книгу свою — О_г_л_а_ш_е_н_і_е, и билъ челомъ патріарху Филарету, чтобъ ее исправить. Патріархъ началъ исправленіе измѣненіемъ заглавія книги: вмѣсто О_г_л_а_ш_е_н_і_е онъ назвалъ ее Б_е_с_ѣ_д_о_с_л_о_в_і_е, на томъ основаніи, что подъ именемъ «о_г_л_а_ш_е_н_і_я» уже извѣстна книга Кирилла Іерусалимскаго, а подъ однимъ именемъ многимъ книгамъ «быти не лѣпо; о другихъ статьяхъ, которыя найдены не сходными съ русскими и греческими переводами „о божествѣ и воплощеніи, и о страсти Господни и о всякомъ дѣйствіи христіянскаго закона“, патріархъ велѣлъ поговорить съ Зизаніемъ богоявленскому игумену, „что на Москвѣ, изъ ветошнаго ряду“, Ильѣ, да Гришкѣ о_т_ъ к_н_и_ж_н_ы_я с_п_р_а_в_к_и (т. е. справщику типографіи); говорить велѣно любовнымъ обычаемъ и со смиреніемъ нрава. Разговоръ этотъ происходилъ на казенномъ дворѣ, въ нижней палатѣ, передъ государевымъ бояриномъ княземъ Иваномъ Борисовичемъ Черкасскимъ и думнымъ дьякомъ Ѳедоромъ Лихачевымъ. Между прочимо Илья и Гришка говорили Зизанію: „У тебя въ книгѣ написано о кругахъ небесныхъ, о планетахъ, зодіяхъ, о затмѣніи солнца, о громѣ и молніи, о тресновеніи, шибаніи и перунѣ, о кометахъ и о прочихъ звѣздахъ: но эти статьи взяты изъ книги астрологіи; а эта книга астрологія взята отъ волхвовъ еллинскихъ и отъ идолослужителей, а потому къ нашему православію не сходна“. З_и_з_а_н_і_й: „Почему же не сходна? Я не написалъ колеса счастія и рожденія человѣческаго, не говорилъ, что звѣзды управляютъ нашею жизнью; я написалъ только для знанія, пусть человѣкъ знаетъ, что все это тварь Божія“. И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: „Да зачѣмъ писалъ для знанія? Зачѣмъ изъ книги астрологіи ложныя рѣчи и имена звѣздамъ выбиралъ, а иныя рѣчи отъ своего умышленія прилагалъ и неправильно объявлялъ?“ З_и_з_а_н_і_й: ,,Что же я неправильно объявлялъ? Какія ложныя рѣчи и имена звѣздамъ выбиралъ?» И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «А развѣ это правда: говоришь — облака, надувшись, сходятся и ударяются, и отъ того бываетъ громъ; огонь и звѣзды называешь животными звѣрями, что на тверди небесной!» З_и_з_а_н_і_й: «Да какъ же по вашему писать о звѣздахъ?» И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «Мы пишемъ и вѣруемъ, какъ Моисей написалъ: сотворилъ два свѣтила великія и звѣзды, и поставилъ ихъ Богъ на тверди небесной свѣтить по землѣ и владѣть днемъ и ночью; а животными звѣрями Моисей ихъ не называлъ». З_и_з_а_н_і_й: «Да какъ же эти свѣтила движутся и обращаются?» И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «По повелѣнію Божію, Ангелы служатъ, тварь водя». З_и_з_а_н_і_й: «Воленъ Богъ да государь святѣйшій киръ Филаретъ патріархъ, я ему о томъ и бить челомъ пріѣхалъ, чтобъ мнѣ недоумѣніе мое исправилъ; я и самъ знаю, что въ книгѣ моей много недѣльнаго написано». И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «Прилагаешь новый вводъ въ Никифоровы правила, чего въ нихъ не бывало; намъ кажется, что этотъ вводъ у тебя отъ латинскаго обычая; сказываешь, по простому человѣку или иному можно младенца или какого человѣка крестить». З_и_з_а_н_і_й: «Да, это есть въ Никифоровыхъ правилахъ». И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «У насъ въ греческихъ Никифоровыхъ правилахъ нѣтъ; развѣ у васъ вновь введено, а мы такихъ новыхъ вводовъ не принимаемъ». З_и_з_а_н_і_й: «Да гдѣ же у васъ взялись греческія правила?» И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «Кипріанъ митрополитъ, когда пришелъ изъ Константинограда на русскую митрополію, то привезъ съ собою правильныя книги христіанскаго закона, греческаго языка правила, и перевелъ на славянскій языкъ. Божіею милостью они пребываютъ и до сихъ поръ безо всякихъ смутковъ и прикладовъ новыхъ вводовъ, да и многія книги греческаго языка есть у насъ старыхъ переводовъ; а которыя теперь къ намъ выходятъ печатныя книги греческаго языка, то мы ихъ принимаемъ и любимъ, если они сойдутся съ старыми переводами; а если въ нихъ есть какія нибудь новизны, то мы ихъ не принимаемъ, хотя онѣ и греческимъ языкомъ тиснуты, потому что греки теперь живутъ въ великихъ тѣснотахъ, въ невѣрныхъ странахъ, и печатать имъ по своему обычаю невозможно». З_и_з_а_н_і_й: «И мы новыхъ переводовъ греческаго языка книгъ не принимаемъ же; я думалъ, что въ Никифоровыхъ правилахъ въ самомъ дѣлѣ написано; а теперь слышу, что у васъ этого нѣтъ, такъ и я не принимаю; простите меня Бога ради; я для того сюда и пріѣхалъ, чтобы мнѣ отъ васъ здѣсь лучшую науку принять». И_л_ь_я и Г_р_и_ш_к_а: «Скажи намъ, что еще съ нами объ этой книгѣ хочешь говорить?» З_и_з_а_н_і_й: «Всегда радъ я съ вами бесѣдовать; а книгу государскаго жалованья я всю прочелъ, прилежно трудился при васъ и безъ васъ, и много просвѣщенія душѣ своей пріобрѣлъ. Дивлюсь великой премудрости православнаго государя патріарха: какой разумъ, какой смыслъ, какую великую благодарованную премудрость имѣетъ въ себѣ! Какъ онъ, государь, такую большую книгу въ такое малое время сочинилъ! Во истину Богъ дѣйствуетъ въ немъ». При этихъ словахъ Зизаній началъ прижимать книгу къ груди и любезно всюду ее цѣловать. Разговоръ этотъ описанъ Гришкою-справщикомъ и дошелъ до насъ во всей подробности.


ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
правитьОТЪ ПОЛОВИНЫ XVII В. ДО ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНІЙ.
правитьXVII.
правитьИсторическая литература на сѣверо-востокѣ Руси въ концѣ XVI и началѣ XVII в. — Новыя литературныя начала, внесенныя въ Москву кіевскими учеными. — Страсть къ виршамъ; виршеслагатели.
правитьРанѣе въ главѣ XV мы замѣтили, что съ половины XVI в. даже и на отдаленномъ сѣверо-востокѣ Руси, въ литературѣ, какъ и въ жизни, становится замѣтенъ разрывъ съ прошедшимъ, уклоненіе отъ древне-русскихъ преданій и началъ въ общественной и въ частной жизни; задолго передъ тѣмъ наступившій періодъ политическаго преобладанія Москвы, среди котораго воспиталось уже не одно поколѣніе, успѣлъ въ такой степени повліять на общество, что въ сознаніи его даже сложился довольно полный идеалъ человѣка и гражданина, на основаніи новыхъ «московскихъ» взглядовъ на вещи. Этотъ идеалъ, какъ мы видѣли выше, проявился даже и въ литературѣ, въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ ея памятниковъ, относящихся въ эпохѣ Іоанна Грознаго. Печаленъ и жалокъ былъ этотъ идеалъ, вызванный къ жизни тягостными условіями исторической и общественной жизни русской, и — къ счастью нашему — не долго было ему суждено служить крайнею цѣлью стремленій для лучшихъ русскихъ людей; но какъ ни былъ печаленъ и жалокъ идеалъ, онъ все же служилъ однимъ изъ при-знаковъ сознательнаго отношенія къ дѣйствительности и пониманія ея потребностей. Вскорѣ, въ лицѣ учениковъ М. Грека, составляющихъ весьма малую, но тѣмъ не менѣе лучшую часть современнаго общества, проявилось противодѣйствіе тому идеалу, который выставленъ былъ Домостроемъ и нашелъ себѣ такого горячаго защитника въ лицѣ Іоанна Грознаго… И вотъ, впервые, послѣ многихъ вѣковъ исключительной принадлежности духовному сословію, литература наша вновь обогатилась произведеніями двухъ свѣтскихъ писателей. Но этого мало: новыя потребности общественныя оказывали вліяніе и на общій ходъ литературы, способствовали нѣкоторому видоизмѣненію и тѣхъ литературныхъ родовъ, которые до того времени, почти безъ всякой перемѣны, успѣли уже пережить на Руси нѣсколько вѣковъ. Мы уже видѣли, какому видоизмѣненію подвергались житія, входя въ составъ громаднаго сборника, извѣстнаго подъ названіемъ Макарьевскихъ Четьихъ-Миней; тому же неутомимому Макарію приписываютъ и первую попытку создать нѣчто новое на основаніи громаднаго лѣтописнаго матерьяла. Въ царствованье Іоанна Грознаго, рядомъ съ первой, прагматически изложенной, исторической монографіей, написанной Курбскимъ, встрѣчается и еще одинъ новый видъ историческихъ сочиненій — такъ называемая С_т_е_п_е_н_н_а_я к_н_и_г_а, въ которой содержаніе отечественной исторіи излагается въ извѣстной послѣдовательности, по степенямъ родовъ княжескихъ, въ нисходящей линіи. На основаніи этого порядка, по которому сначала излагаются событія въ княженіе отца, и потомъ въ княженіе сына и внука и т. д., видимъ въ Степенной книгѣ всю русскую исторію, отъ Рюрика и до Іоанна Грознаго, изложенную въ видѣ 20 степеней. Такое изложеніе, повидимому, понравилось своею новизною, и впослѣдствіи, въ XVII в., Степенная книга была дополнена еще одною степенью, такъ что изложеніе событій историческихъ доведено въ ней до смерти царя Алексѣя Михайловича. Но по отношенію къ воззрѣніямъ на событія, въ Степенной книгѣ не замѣтно никакого движенія впередъ: въ ней преобладаетъ та же исключительно-религіозная точка зрѣнія, съ какою мы постоянно встрѣчаемся въ лѣтописи нашей, и даже настолько преобладаетъ что въ числѣ историческихъ лицъ и событій преимущественное вниманіе обращено только на тѣ, которыя имѣютъ значеніе въ исторіи Церкви.
Кромѣ С_т_е_п_е_н_н_о_й к_н_и_г_и, представляющей попытку видоизмѣненія собственно во внѣшнемъ изложеніи событій историческихъ, около того же времени и вообще становится замѣтно стремленіе овладѣть обширнымъ и разрозненнымъ лѣтописнымъ матерьяломъ, заключить его въ болѣе тѣсныя рамки, привести къ такому виду, который бы давалъ возможность имъ пользоваться. Это побудило къ составленію многихъ нашихъ лѣтописныхъ сборниковъ, подъ самыми различными наименованіями; сюда относятся и Софійскій временникъ, и Царственный лѣтописецъ, и Царственная книга, которые однакоже не представляютъ собою ничего цѣлаго, а только излагаютъ довольно подробно событія, относящіяся къ отдѣльнымъ эпохамъ. Первый, сколько-нибудь полный сборникъ составленъ былъ уже въ XVII столѣтіи, и носитъ названіе Н_и_к_о_н_о_в_с_к_о_й лѣтописи, можетъ быть, потому, что былъ составленъ по повелѣнію знаменитаго патріарха. Нельзя не обратить вниманія на то, что къ тому же Іоаннову царствованью относятся два самостоятельныхъ историческихъ труда: одинъ — «Исторія Казанскаго Царства» — написанъ былъ священникомъ Іоанномъ Глазатымъ, прожившимъ лѣтъ двадцать въ плѣну у татаръ; другой — «Памяти (т. е. записки) Алексѣя Адашева» — вошелъ въ составъ Царственной книги. Это древнѣйшія изъ нашихъ историческихъ записокъ или мемуаровъ — первыя въ цѣломъ ряду произведеній того же рода, которыя особенно размножаются въ концѣ XVII вѣка, когда лѣтописи начинаютъ терять всякое значеніе, а мемуары пріобрѣтаютъ такой важный историческій интересъ, особенно въ началѣ XVIII вѣка. Если уже въ XVI вѣкѣ обработка историческаго матерьяла въ различныхъ его видахъ и примѣненіяхъ въ такой значительной степени обращала на себя вниманіе современниковъ, то ужъ, конечно, въ XVII вѣкѣ, когда поворотъ общества на новую дорогу сталъ еще болѣе замѣтенъ, этотъ поворотъ долженъ былъ еще рѣзче высказаться въ литературѣ, и, между прочимъ, особенно рѣзко проявиться въ обработкѣ того же историческаго матерьяла. Сознана была всѣми необходимость учиться у запада: оттуда и послы, и заѣзжіе иностранцы стали привозить къ намъ массу книгъ, и тщательно принялись русскіе люди за переводы и пересажденія на русскую почву разныхъ грамматикъ, лѣчебниковъ, ариѳметикъ икосмографій. Само собою разумѣется, что болѣе нуждались въ книгахъ тѣ лица, которымъ по обязанности или значенію ихъ приходилось стоять ближе къ западу; вотъ почему и видимъ мы, что всѣ книги, какія с_т_р_о_я_т_с_я (составляются) въ это время, обыкновенно с_т_р_о_я_т_с_я не менѣе, какъ въ двухъ экземплярахъ: одинъ изъ этихъ экземпляровъ берется на Верхъ, къ Великому Государю, другой отдается въ посольскій приказъ. Изъ тѣхъ же близкихъ сношеній съ западомъ рождается необходимость частыхъ справокъ по русскимъ лѣтописямъ и иностраннымъ хроникамъ; а такъ какъ подобныя справки, безъ всякихъ предварительно составленныхъ пособій, оказывались очень трудными, то и стали дѣлать изъ лѣтописей и хроникъ особаго рода выборки и составлять «наглядныя генеалогическія таблицы съ портретами государей и ихъ гербами», при чемъ, какъ для царя, такъ и для посольскаго приказа, необходимо было обозначить, какой россійскій государь съ какими иностранными государями входилъ въ сношенія. Матвѣевъ въ посольскомъ приказѣ съ товарищами своими, съ приказными людьми и переводчиками, сдѣлалъ «Г_о_с_у_д_а_р_с_т_в_е_н_н_у_ю б_о_л_ь_ш_у_ю к_н_и_г_у — описаніе великихъ князей и царей россійскихъ, откуда корень ихъ государскій изыде, и которые великіе князи и цари съ великими-жъ государи окрестными съ христіанскими и съ мусульманскими были въ ссылкахъ, и какъ великихъ государей именованья и титулы писаны къ нимъ; да въ той же книгѣ писаны великихъ князей и царей, и вселенскихъ и московскихъ патріарховъ, и римскаго папы и окрестныхъ государей и всѣхъ персоны и гербы». Персоны эти были писаны иконописцами, И_в_а_н_о_м_ъ М_а_к_с_и_м_о_в_ы_м_ъ и Д_м_и_т_р_і_е_м_ъ Л_ь_в_о_в_ы_м_ъ въ теченіи пяти мѣсяцевъ 1). Около того же времени, и конечно на основаніи тѣхъ же чисто практическихъ современныхъ потребностей, д_ь_я_к_ъ Г_р_и_б_о_ѣ_д_о_в_ъ п_о_с_т_р_о_и_л_ъ новую книгу: «Исторію, сирѣчь повѣсть или сказаніе вкратцѣ о благочестно державствующихъ и свято-пожившихъ боговѣнчанныхъ царяхъ и великихъ князехъ, иже въ Россійстѣй земли благоугодно державствовавшихъ». Книга Грибоѣдова заключаетъ въ себѣ простое перечисленіе лицъ, въ родословномъ порядкѣ, при чемъ онъ иногда пропускаетъ цѣлыя княженія. Каждое изъ упоминаемыхъ имъ лицъ удостоивается самыхъ преувеличенныхъ похвалъ. Главная цѣль книги — вывести родъ московскихъ государей и примкнуть къ ней новую династію, которую, съ другой стороны, онъ заноситъ и въ число «сродниковъ Августа Кесаря Римскаго». Съ характеромъ изложенія дьяка Грибоѣдова довольно отчетливо можетъ насъ ознакомить его отзывъ объ Іоаннѣ Грозномъ: «Житіе благочестно имѣя и ревностью по Бозѣ присно препоясуясь, и благонадежныя побѣды мужествомъ окрестныя многонародныя царства пріятъ, Казань и Астрахань, и Сибирскую землю. И тако Россійскія земли держава пространствомъ разливашеся, и народи ея веселіемъ ликоваху и побѣдныя хвалы Богу возсылаху». Замѣчательно, что почти одновременно, на сѣверо-востокѣ и на юго-западѣ Руси, явились изъ совершенно различныхъ потребностей двѣ первыя попытки полнаго изложенія русской исторіи. Г. Соловьевъ, разсматривая этотъ «первый младенческій, несвязный лепетъ русской исторіографіи», не рѣшается отдать преимущества ни книгѣ дьяка Грибоѣдова передъ «Синопсисомъ» И. Гизіеля, ни «Синопсису» передъ трудомъ Грибоѣдова; онъ только замѣчаетъ, что «царскій характеръ исторіи сѣверной Россіи рѣзко сказался въ сочиненіи Московскаго дьяка». Мы, со своей стороны, позволимъ себѣ обратить вниманіе только на то, что между трудомъ Гизіеля и трудомъ Грибоѣдова нельзя не замѣтить одного важнаго и чрезвычайно характеристическаго различія — различія въ тѣхъ общественныхъ потребностяхъ, которыя вызвали авторовъ къ составленію обоихъ выше-упомянутыхъ трудовъ ихъ. Гизіель составилъ свой Синопсисъ, какъ учебникъ для школъ, вслѣдствіе того, что такой учебникъ, такое осязательное напоминаніе объ историческомъ значеніи русской народности было необходимо среди пробужденнаго къ умственной и нравственной самодѣятельности русскаго населенія нашей западной и юго-западной окраины. Дьякъ Грибоѣдовъ п_о_с_т_р_о_и_л_ъ свою И_с_т_о_р_і_ю, с_и_р_ѣ_ч_ь п_о_в_ѣ_с_т_ь и_л_и с_к_а_з_а_н_і_е в_к_р_а_т_ц_ѣ", только для того, чтобы облегчить собираніе справокъ, необходимыхъ для чисто-служебной дѣятельности, и при самомъ составленіи книги постоянно имѣлъ въ виду однѣ только чисто-практическія цѣли. Въ направленіе этихъ двухъ сочиненій, и въ самыхъ потребностяхъ, вызвавшихъ Гизіеля и Грибоѣдова къ написанію ихъ, рѣзко высказываются два совершенно противуположныхъ направленія нашей русской культуры: одно, по которому шло образованіе наше на юго-западѣ, хотя и основанное на вліяніи запада, воспринятомъ черезъ Польшу, однакоже совершенно-органически пустившее прочные корни въ самую глубь народной массы; другое — по которому медленно, черепашьимъ ходомъ, черезъ тысячи препятствій, пробивало себѣ дорогу образованіе на московскомъ сѣверо-востокѣ. Главнымъ и печальнымъ недостаткомъ этого послѣдняго направленія было именно то, что оно, почти не касаясь массы, захватывало только одни верхи общества и то не сполна, и потому именно, уже съ самаго начала носило въ себѣ зародыши поверхностности, непрочности, свойственной всякому, внѣшнему, чисто-формальному подражанію. Юго-западные ученые, съ половины XVII столѣтія появляющіеся въ Москвѣ, при помощи своего живаго нравственнаго вліянія, особенно сильно-проявившагося въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича и въ правленіе царевны Софіи, правда, успѣваютъ придать нѣсколько болѣе серьезности и значенія первымъ попыткамъ внесенія въ Москву западной образованности; но вліяніе ихъ длится не долго, и приверженцамъ стараго порядка вещей удается вскорѣ внушить обществу недовѣріе къ этимъ новымъ учителямъ. Уже при самомъ открытіи Московской греко-латинской академіи, основанной по ихъ плану и ихъ заботами, приверженцамъ старины удается оттереть кіевскихъ ученыхъ отъ этого новаго училища, и поручить новое училище старымъ учителямъ — грекамъ-монахамъ. По всему замѣтно, что московское общество конца XVII столѣтія, хотя и двигалось медленными, вынуждеными шагами по какому-то новому и страшному для него пути прогресса, но во всякое время и при каждомъ удобномъ случаѣ готово было вернуться на свой старый путь, и нимало не было склонно отступать въ образованіи отъ завѣщанныхъ преданіями, давно-отжившихъ идеаловъ византійской монашеской науки. И благородное рвеніе кіевскихъ ученыхъ, и любовь ихъ къ наукѣ, и самое стремленіе оживить ее новыми пріемами преподаванія, и даже религіозное рвеніе ихъ — все это способно было только возбудить подозрѣніе къ нимъ въ московскомъ обществѣ. Въ той борьбѣ, какая завязалась между Симеономъ Полоцкимъ и его учениками съ одной стороны, и высшимъ московскимъ духовенствомъ — съ другой, слишкомъ ясно выразилась необходимость колоссальнаго переворота общественнаго. Постепенность и медленные переходы общества отъ одной ступени развитія къ другой, высшей, при томъ общественномъ строѣ, съ какимъ мы встрѣчаемся на Руси XVII столѣтія — оказывались совершенно невозможными, и обществу грозила серьезная опасность… Но на спасеніе его въ томъ же вѣкѣ народился богатырь-царь, который отвергъ и старыхъ учителей, и старыя преданія, за образованіемъ и наукой обратился къ самому источнику ихъ, къ нѣмецкому западу, и навсегда связалъ науку и образованіе съ обществомъ, съ м_і_р_о_м_ъ и дѣйствительностью.
1) Соловьевъ, Исторія. XIII, 182.
Но если и не слишкомъ сильно, не слишкомъ продолжительно было вліяніе кіевской науки и образованности на Москву, въ теченіи XVII вѣка, за то вліяніе ихъ на литературу выказалось довольно рѣзко внесеніемъ въ кругъ русскихъ литературныхъ произведеній нѣкоторыхъ такихъ родовъ, о которыхъ прежде, до кіевскаго вліянія на Москвѣ и не слышно было. Не говоря уже о томъ, что подъ ихъ несосредственнымъ вліяніемъ возобновлена была въ церквахъ та живая, изустная проповѣдь, которая смолкла у насъ на Руси уже съ конца XV вѣка, — мы должны будемъ указать (какъ на два главныхъ нововведенія въ русской литературѣ XVII вѣка) на с_т_и_х_о_т_в_о_р_н_у_ю форму изложенія мыслей и на д_р_а_м_а_т_и_ч_е_с_к_і_я произведенія, впервые поставленныя на московской придворной сценѣ Симеономъ Полоцкимъ.
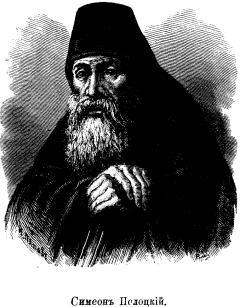
«Вирши» или стихи на русскомъ языкѣ появляются впервые, подъ непосредственнымъ вліяніемъ польской поэзіи, въ юго-западномъ углу Россіи, не позже конца XVI вѣка. По мѣрѣ распространенія школъ, по мѣрѣ распространенія образованности въ кругу русскаго населенія западнаго и юго-западнаго края, распространялась всюду и охота къ слаганію виршей. Для того, чтобы сдѣлать такое слаганіе виршей возможнымъ на русскомъ языкѣ, переняли совершенно несвойственный русскому языку, богатому разнообразіемъ удареній, польскій с_и_л_л_а_б_и_ч_е_с_к_і_й с_т_и_х_ъ, въ которомъ весь размѣръ основывался только на цезурѣ въ серединѣ стиха, да на возвышеніи голоса въ концѣ стиха (на предпослѣднемъ слогѣ, по общимъ законамъ польскаго ударенія). При разнообразіи удареній, составляющемъ лучшее украшеніе нашего языка, приходилось совершенно переиначивать слова и дѣлать большое насиліе надъ способомъ выраженія, чтобы вогнать русскую фразу въ тѣсныя рамки неудобнаго, неподходящаго къ ней силлабическаго стиха. Не смотря на это, возможность выражать свои мысли «виршами» такъ понравилась на первыхъ порахъ русскимъ, что явилось много охотниковъ-поэтовъ, посвящавшихъ слаганію виршей свои досуги. А такъ-какъ въ польско-іезуитскихъ коллегіяхъ такое слаганіе виршей занимало видное мѣсто въ ряду риторическихъ упражненій, и на это упражненіе ученики должны были употреблять почти столько же времени, сколько и на упражненіе въ ораторскомъ искусствѣ, то и не мудрено, если и въ кіевскихъ школахъ, основанныхъ по плану польско-іезуитскихъ коллегій, стихотворство также точно вошло въ моду и стихосложеніе получило подобающее ему важное значеніе въ кругу предметовъ учебнаго преподаванія. Многіе изъ наиболѣе замѣчательныхъ представителей кіевской учености оставили по себѣ цѣлые фоліанты силлабическихъ стихотвореній, которыя были писаны ими на разные случаи, и которыми они очень часто заканчивали даже свои церковныя проповѣди, «расширяя риѳмами» ихъ значеніе въ виршахъ своихъ, воспѣвая чудеса пресв. Богородицы и святыхъ подвижниковъ, для прославленія которыхъ имъ казался слабъ языкъ прозы. Страсть къ виршамъ доходила часто до самыхъ смѣшныхъ крайностей: — въ стихахъ излагались предметы даже и вовсе не имѣвшіе никакого отношенія къ поэзіи, писались учебники и челобитныя, толкованія къ сочиненіямъ и календари. Уже въ началѣ XVII в. мы встрѣчаемъ упоминаніе о князѣ Иванѣ Х_в_о_р_о_с_т_и_н_и_н_ѣ, который, какъ видно изъ сыскнаго о немъ дѣла, говорилъ въ разговорахъ, «что на Москвѣ людей нѣтъ, все людъ глупой и жити ему не съ кѣмъ… а въ к_н_и_ж_к_а_х_ъ с_в_о_е_г_о с_л_о_г_а писалъ про всякихъ людей Московскаго государства многія укоризны, что будто московскій народъ кланяется святымъ иконамъ по подписи, хотя и не прямой образъ; а который образъ написанъ хотя и прямо, а не подписанъ, тѣмъ не кланяются; да московскіе-жъ люди с_ѣ_ю_т_ъ з_е_м_л_ю р_о_ж_ь_ю, а ж_и_в_у_т_ъ б_у_д_т_о в_с_е л_о_ж_ь_ю и пріобщенья ему нѣтъ съ ними ни котораго; и составилъ оныя многія укоризненныя слова, п_и_с_а_н_ы н_а в_и_р_ш_ъ: и то знатно, что такія слова говорилъ и писалъ гордостью и безмѣрствомъ своимъ въ разумѣ», и тѣмъ — «положилъ на всѣхъ людей Московскато государства хулу и неразумье». Горькая участь постигла этого перваго русскаго сатирика и виршеслагателя: — за хулы и религіозныя сомнѣнія его сослали въ Кирилловъ-Бѣлозерскій монастырь съ крѣпкимъ наказомъ, чтобы кромѣ церковныхъ, «безъ которыхъ быть нельзя, иныхъ бы книгъ никакихъ у него не было, для того, что в_ы_с_о_к_о_у_м_і_е_м_ъ в_о_з_н_е_с_с_я и в_ы_с_о_к_о_с_л_а_в_і_я в_о_з_ж_е_л_а_в_ъ д_а н_е в_п_а_д_е_т_ъ в_ъ б_е_р_е_г_ъ п_о_г_и_б_е_л_и, к_а_к_ъ и д_р_у_г_і_е с_а_м_о_м_н_и_т_е_л_и, о и_с_т_и_н_ѣ п_о_г_р_ѣ_ш_и_в_ш_і_е и с_а_м_о_м_н_ѣ_н_і_е_м_ъ п_о_г_и_б_ш_і_е» 1). Собственно говоря, въ моду и обычаи вводитъ въ Москвѣ вирши Симеонъ Полоцкій. Поставленный, по званію домашняго учителя, въ близкое соотношеніе къ царской семьѣ, онъ, какъ представитель современной науки и образованности, очевидно употреблялъ всѣ усилія къ тому, чтобы выказать эту науку и образованность со всѣхъ наиболѣе выгодныхъ сторонъ и поставить ее въ тѣснѣйшую связь съ жизнью. Вотъ почему мы видимъ, что онъ пользуется каждымъ удобнымъ случаемъ для заявленія своего мнѣнія о томъ, что происходитъ передъ его глазами въ Москвѣ, а также и для выраженія своего участія къ тому, что происходитъ въ царской семьѣ. При этомъ, какъ человѣкъ образованный, онъ, по внѣшней формѣ выраженія своихъ мыслей, хочетъ отличаться отъ окружающей его духовной среды — и пишетъ стихи при каждомъ удобномъ случаѣ. Кромѣ обширныхъ сборниковъ проповѣдей, о которыхъ мы упоминали выше, Симеонъ Полоцкій оставилъ намъ два не менѣе объемистыхъ сборника своихъ стихотворныхъ произведеній; одинъ, подъ заглавіемъ «В_е_р_т_о_г_р_а_д_ъ м_н_о_г_о_ц_в_ѣ_т_н_ы_й» (1678), напоминаетъ собою наши «азбуковники», такъ какъ въ немъ стихотворенія, сюжетомъ которыхъ являются самые разнообразные предметы, расположены въ азбучномъ порядкѣ «риѳмически, по числу славянскаго алфавита». Другой, гораздо болѣе важный сборникъ стихотвореній Симеона, «Р_и_ѳ_м_о_л_о_г_і_о_н_ъ» (1678), представляетъ собою явленіе литературное, прекрасно характеризующее и то время, къ которому оно относится, и ту школу, къ которой принадлежалъ авторъ «Риѳмологіона». Въ этомъ сборникѣ встрѣчаемъ стихи самаго разнообразнаго содержанія: похвальные, поздравительные, жалобные, восхвалительные, привѣтственные и случайные, написанные по поводу различныхъ празднествъ. Въ концѣ сборника помѣщены и два драматическихъ произведенія, принадлежащія перу Полоцкаго: комедія «о Блудномъ сынѣ» и о «Царѣ Новуходоносорѣ». Въ числѣ вышеупомянутыхъ стихотвореній находимъ и поздравленія царю и царицѣ отъ имени царевича Ѳеодора, и обширный панегирикъ царю Алексѣю Михайловичу, подъ заглавіемъ «Орелъ Россійскій, въ солнцѣ представленный», и утѣшительное посланіе царю по по-воду кончины его первой жены, и поздравленіе со вступленіемъ во второй бракъ, и скорбную элегію на смерть царя Алексѣя Михайловича, написанную въ формѣ діалога между покойнымъ царемъ, его семействомъ и подданными. Однимъ словомъ, «Риѳмологіонъ» представляетъ собою самое осязательное доказательство того громаднаго запаса практической мудрости, какимъ долженъ былъ обладать на Руси одинъ изъ новыхъ учителей, даже и поставленный въ высокое положеніе наставника царевича и въ близкія сношенія съ царскимъ семействомъ. Другимъ любопытнымъ памятникомъ стихотворнаго искусства Симеона Полоцкаго является «П_с_а_л_т_и_р_ь», переложенная имъ на церковно-славянскій языкъ силлабическими стихами. Переводъ этотъ былъ напечатанъ въ 1680 году, и возбудилъ своею новостью многіе опасные для автора толки невѣждъ. Полоцкій увидѣлъ себя вынужденнымъ защищаться противъ направленныхъ на него обвиненій и старался доказать, что «стихотворное переложеніе Псалтири н_е м_о_ж_е_т_ъ б_ы_т_ь н_а_з_в_а_н_о п_р_о_т_и_в_о-ц_е_р_к_о_в_н_о_ю н_о_в_о_с_т_ь_ю», такъ какъ самый подлинникъ ея, на еврейскомъ, сочиненъ стихами, да при томъ же существуютъ уже и другіе стихотворные переводы псалтири: латинскій, греческій и польскій. При изданіи этой книги, Симеонъ имѣлъ въ виду благую цѣль: онъ предназначалъ переводъ свой на то, чтобы сдѣлать псалмы не только доступными, но и пріятными для домашняго чтенія и пѣнія, и для этого даже приложилъ къ тексту своего перевода ноты… Но такія цѣли, такія попытки литературныя были еще слишкомъ рановременными и могли возбуждать въ большинствѣ современнаго общества только опасенія противъ «зараженныхъ католическими ученіями» нововводителей. Въ числѣ ближайшихъ учениковъ и подражателей Симеона Полоцкаго нельзя не упомянуть здѣсь же, еще разъ, о томъ С_и_л_ь_в_е_с_т_р_ѣ М_е_д_в_ѣ_д_е_в_ѣ — настоятелѣ и строителѣ Заиконоспасскаго монастыря — который, будучи ревностнымъ и просвѣщеннымъ послѣдователемъ идей Симеона Полоцкаго, въ то же время былъ и слѣпымъ подражателемъ ему въ его дѣятельности литературной, какъ усердный слагатель вир. Кромѣ того посланія, которое, вмѣстѣ съ Каріономъ Истоминымъ, С. Медвѣдевъ подалъ царевнѣ Софіи, прося о введеніи наукъ въ Россіи, онъ оставилъ намъ еще и другое стихотворное произведеніе, соотвѣтствующее вполнѣ духу времени и господствовавшимъ тогда литературнымъ воззрѣніямъ: — это «Плачъ и утѣшеніе о кончинѣ царя Ѳеодора Алексѣевича». Все стихотвореніе раздѣлено на 22 вирша или пѣсни, соотвѣтственно числу лѣтъ жизни покойнаго царя; въ содержаніи этого «Плача» преобладаютъ аллегорическая напыщенность и реторическія украшенія. По юномъ царѣ плачетъ не только царица и родственники, не только духовенство, воинство, Великая, Малая и Бѣлая Россія, но даже «сугубоглавый царскій орелъ, преславный клейнодъ россійскій…», пока наконецъ скончавшійся царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ не обращается къ плачущей Россіи со слѣдующимъ утѣшеніемъ:
«Тѣмъ же, преставши плача, Россіе, твоего,
Отъ пришествія въ небо радуйся моего».
1) З_б_ѣ_л_и_н_ъ, Домашній бытъ русск. царицъ, стр. 420—21.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ СЕМНАДЦАТОЙ,
правитьПосланіе Каріона Истомина царевнѣ Софьѣ, въ которомъ онъ проситъ о введеніи наукъ въ Россію.
правитьБлагородная Софія царевна,
Госпожа княжна Алексѣвна!
Пречестна дѣва и добросіянна,
Въ небесну жизнь Богомъ преизбранна!
Мирно и здраво отъ Господа свѣта
Буди хранима въ премнога лѣта.
Мудрость есть, русски толкована,
Еллински отъ вѣка Софіею звана.
Любители той философы звались
И добронравствомъ тоя украшались.
Она бо учитъ правдѣ и мужеству;
Наипаче же Божію дружеству,
Ихъ же требнѣе ничто человѣкомъ,
Текущимъ присно къ прерадостнымъ вѣкомъ;
Мудростью бо вси цари царствуютъ
И вси вельможи добрѣ начальствуютъ,
Мудростью же вся управляются,
И о томъ вси люди утѣшаются;
Ею здравствуютъ удобь человѣцы,
Исчисляются времена и вѣцы;
Ею по морю плаваютъ удобно
Во время люто и зѣло безгодно.
Ею живущи люди благочестно
Къ Богу очами смотрятъ не прелестно;
Ею дѣвственны вельми хранятъ цвѣты
И чисти сердцемъ зрятъ Божія свѣты;
Ею въ мірѣ вся блага бываютъ,
Разумъ, богатство люди обрѣтаютъ.
Мудрости бо нѣсть подобіе кое,
Яко гонитъ лесть и всякое злое.
Каменье драго предъ нею меньшъ песокъ,
Понеже тоя чистъ разумъ высокъ,
Разумъ подаетъ и въ добро охоту,
Токмо да любитъ всякъ ея доброту.
Въ юности искавшь невѣсту водити
Не устыдеся о ней возгласити.
Ничто же убо Богъ благій возлюбитъ
Точію сего, иже дней не губитъ:
Но съ мудростію присно пребываетъ
И конецъ всѣхъ дѣлъ извѣстно смотряетъ.
Здѣ во велицѣ Россіи издавна
Мудрость святая пожеланна славна:
Да учатся той юнѣйшія дѣти
И собираютъ разумные цвѣти;
Навыкнутъ же тои свершеніи мужи,
Да свободится отъ всякія нужи.
Престарѣвшіе видѣвъ въ юныхъ тую,
Воскликнутъ Творцу всѣхъ пѣснь Трисвятую.
Свѣтла есть мудрость и не увядома
Самемъ Господемь присно есть блюдома,
Тѣмъ паче о ней зѣлно промышляше,
Егда отецъ вашъ въ жизни пребываше,
Блаженъ въ памяти Алексій Великій
Царь Михайловичъ всей Россіи толикій,
Великой, Малой и Бѣлой державный
Многихъ государствъ обладатель славный
Строилъ государь ко Божьей воли,
Въ наученіе восхотѣвшимъ схоли.
Учители же быша мудры люди,
Церкви святыя восточныя уди.
Тако бо царю наука сладися,
О ученіи Промыслъ сотворити,
Мудрость въ Россіи святу вкоренити;
Да учатся той юны отрочата
И навыкаютъ зѣло дѣла свята,
Прежеланно бо гдѣ мудрость пасется,
Зане черезъ тую все добро ліется;
И аще Господь хощетъ сему быти,
Тобою въ дѣло можетъ произыти;
Годно прежде всѣхъ желатъ ее невредное.
Богу бо, людемъ оно потребное,
Умоли убо Самодержцевъ сущихъ
Россійскій скипетръ въ рукахъ си имущихъ,
Великихъ князей, государей-царей
Благочестивыхъ, престарѣлыхъ зарей
Іоанна, Петра Алексѣевичевъ,
Всего царства московска дѣдичевъ;
Да господари они то изволятъ,
Обще Господа о томъ да помолятъ,
Наукамъ велятъ быти совершеннымъ
И учителямъ людямъ извѣщеннымъ.
Паки тя молю, Дѣву благородну,
Да устроиши науку свободну,
Слышавши твое доброувѣтливство.
Возсылающу пресладкопѣснивство.
Едину царю Богу преблагому;
Иже дастъ помощь дѣлу предрагому;
Сотвори людемъ твою царску милость,
Покажи Россамъ многу добротливость,
Поставь трапезу мудрости словесну
Тщаніемъ твоимъ къ жительству небесну.
Мнози убо суть тоя желатели
Благовѣстимыхъ наукъ пріятели
Буди дѣломъ симъ, яко блага мати,
Яко сынъ его, вашъ братъ, ей учися,
Благій Алексій царевичъ прекрасный,
Юноша чистый и тѣломъ возрастный,
Въ ученіи онъ сице взя охоту,
Яко да вскорѣ узритъ ю доброту:
За ону Богу любезенъ вчинися
И на небеса отздѣ преселися.
Ему же мати царица Марія,
Благовѣрная желавши здравія,
Ильична зѣло въ милости сіяше,
Въ науцѣ присно тщаніе творяше:
Давала ему книги созерцати,
Да страстныхъ мыслей не будетъ страдати,
И милостивая Марія царица,
Представившися, зритъ Троична лица.
Тоже господарь царь Ѳедоръ бйвый
Алексѣевичъ всимъ добротворивый,
Многихъ государствъ, Россіи обладатель,
Страннымъ и нужнымъ велій сострадатель,
Тщася науку въ царствѣ вкоренити,
Хотящимъ людемъ разумы острити;
Храмы многіе того для поставилъ,
Себѣ же благъ путь во небо управилъ,
Представлься Твой братъ въ обители вѣчно,
Идѣже живутъ святіи безпечно;
До днесь наука неокрѣпѣваше,
Случаеми бо здѣ много преставаше,
И то не дивно, что доброе дѣло
Не является въ скорости спѣло.
Тѣмъ благородна княжна превелика
Софія-дѣва господственна лика,
Потчися ради Всемогуща Бога,
У него же есть премудрости многа,
Россовъ, яко чадъ духовно питати.
Аще, Госпоже, въ Россіи си вещи
Учительны ты дѣтельно введеши,
Монарха великъ Господь ублажится,
Твоя память въ вѣкъ хвалами почтится.
Аминь.
Величеству вашему Божія милости желаю усердно
Сіе вѣщавшь рабъ меньшій вашь грѣшный Іеродіаконъ Каріонъ,
Жаждущь вѣкъ онъ
Стопамъ се вергаемъ челомъ.
Седмь тысящь сто лѣтъ перво девятьдесятъ
Мірозданія сіе стиси гласятъ
Індиктіона 5-го Ноемврія мѣсяца въ г дня.
ВИРШИ СИМЕОНА ПОЛОЦКАГО.
Богъ-Всевидѣцъ.
правитьМужъ страннолюбецъ во сію злобу впаде,
Близка сосѣда свинію украде,
Посемъ Христосъ Богъ оному явися,
Въ нища власата странна претворися.
Желая его умильнымъ гласомъ,
Еже стриженнымъ бы себѣ власомъ.
Страннолюбецъ любви и пріялъ есть,
Власа острищи самъ ножницы взялъ есть.
Наченже стрищи ко заду главы пріиде
И ту двѣ оцѣ свѣтлѣ зѣло видѣ
Страхомъ одержимъ къ странну глаголаше:
«Каково чудо сіе» вопрошаше.
Странный мужъ къ нему милостивно рече:
"Знай мя ты быти Христа, человѣче,
Иже отвсюду тайны созерцаю,
Зрѣніемъ моимъ бездны проницаю:
Тѣма очима азъ видѣхъ съ небеси,
Егда свинію ты чюжду кралъ еси,
И гдѣ заключи въ ямѣ устроеннѣй;
Вся ми суть вѣстна во всей странѣ земнѣіо;
Сія извѣстивъ не увидимъ бяше.
Страннопріимецъ о грѣсѣ ридаше,
Виждь, читателю, яко бдѣнно око
Божіе видитъ и что есть глубоко,
Тѣмъ же и въ тайнѣ зла не творшпи,
Завѣтъ Господень выну да храниши.
Купецтво.
правитьЧинъ купецкій безъ грѣха едва можетъ быти,
На многи бо я злобы врагъ обыче льстити;
Изряднее лакомство въ купцѣхъ обитаетъ,
Еже въ многія грѣхи оны убѣждаетъ.
Вопервзхъ, всякій купецъ усердно желаетъ,
Малоцѣнно да купитъ, драго да продаетъ.
Грѣхъ же есть велій драгость велію творити,
Малый прибытокъ лѣтъ есть безъ грѣха строити.
Второй грѣхъ въ купцѣхъ часто есть лживое слово,
Еже ближняго въ вещахъ прельстити готово.
Третій есть клятва во лжу, а та умноженна,
Паче песка на брезѣ морстемъ положенна.
Четвертый грѣхъ татьбою излишне бываетъ,
Таже въ мірѣ въ мѣрилѣхъ часто ся свершаетъ.
Ибо они купуютъ во мѣру велику,
А внегда продаяти ставятъ не толику.
Иніи аще мѣру и праву имѣютъ,
Но неправо мѣрити вся вещи умѣютъ.
Иніи хитростію вещи отягчаютъ,
Мочаще я, нѣціи худыя мѣшаютъ.
А вся сія безъ грѣха немощна суть быти,
Яко Богъ возбраняетъ сихъ лукавствъ творити.
Пятый есть грѣхъ: нѣціи лихоимство дѣютъ,
Егда цѣну болшити за время умѣютъ.
Елма бо мзды чрезъ время нѣко ожидаютъ,
Тогда цѣну вящшую въ купляхъ поставляютъ.
Шестой грѣхъ, егда куплю являютъ благую,
Потомъ лество ставляютъ ину вещь худую.
Седьмой грѣхъ, яко порокъ вещй сокрываютъ,
Вещь худшую за добру покупающимъ даютъ.
Осьмый — яко темныя мѣста устрояютъ,
Да худыми куплями ближнія прелщаютъ,
Да во темности порокъ купли не узрится,
И тако давый сребро въ купли да прелстится.
О, сынове тмы лютыя! Что сія творите?
Лстящея ближнія ваши, сами ся морите.
Въ тму кромѣшную за тму будете ввержени,
Отъ свѣта присносущна вѣчно отлучени!
Отложите дѣла тмы, во свѣтѣ ходите,
Да взыдите на небо, небесно живите!


XVIII.
правитьМистерія въ западной Европѣ и въ Польшѣ. — Духовная драма въ Москвѣ. — «Пещное дѣвство» и другія. — Первыя сценическія представленія на европейскій ладъ. — Духовныя драмы Симеона Полоцкаго и Дмитрія Ростовскаго.
правитьПри упоминаніи о «Риѳмологіонѣ», мы говорили о тѣхъ двухъ драматическихъ произведеніяхъ Симеона Полоцкаго, которыя были помѣщены имъ въ концѣ этой книги. Драматическія произведенія принадлежали у насъ, въ XVII в., къ чисду такихъ новостей, которыя особенно ясно могли служить однимъ изъ признаковъ наступленія новой эпохи въ русской жизни. До конца XVII вѣка предки наши не имѣли никакого понятія о сценическихъ представленіяхъ, о театрѣ и драматическомъ дѣйствіи, хотя русскіе путешественники еще въ XV в., посѣщая Европу, уже видѣли тамъ въ церквахъ представленія духовныхъ драмъ, да и въ самыхъ церквахъ нашихъ, еще съ XVI столѣтія, были совершаемы нѣкоторые обряды чисто-драматическаго характера, напоминавшіе собою церковныя представленія запада, извѣстныя подъ общимъ названіемъ м_и_с_т_е_р_і_й.
Первымъ поводомъ къ появленію м_и_с_т_е_р_і_й на западѣ послужило стремленіе католическаго духовенства къ тому, чтобы сильно подѣйствовать на воображеніе неграмотной массы, и какъ можно яснѣе, какъ можно нагляднѣе истолковать ей великое значеніе важнѣйшихъ христіанскихъ догматовъ. На этомъ основаніи, первоначально, духовенство довольствовалось только тѣмъ, что въ наиболѣе торжественные дни важнѣйшихъ христіанскихъ празднествъ распредѣляло между духовенствомъ и причтомъ чтеніе соотвѣтствующихъ празднеству главъ Св. Писанія, и при томъ такъ, что каждому изъ лицъ, назначенныхъ для чтенія Евангелія въ тотъ день, приходилось читать его, какъ роль актеру на сценѣ, съ особою интонаціею голоса; эти отдѣльныя лица стали впослѣдствіи облекать даже и въ соотвѣтствующіе ихъ ролямъ костюмы, стали окружать и самое мѣсто дѣіствія ихъ почти сценической обстановкой, въ которой около дѣйствующихъ лицъ являлись и всѣ предметы, упоминаемые въ Евангеліи, при описаніи того или другаго событія изъ жизни Спасителя. Такъ, если въ церкви хотѣли представить Рождество Спасителя, то въ одномъ изъ придѣловъ ея ставили ясли, около ясель изображеніе осла и вола, а полъ около нихъ устилался соломой. Ангелъ, являвшійся къ пастырямъ возвѣщать о рожденіи Спасителя, спускался для этого съ верху по веревкѣ; для представленія Воскресенія Христова дѣлалось въ церквахъ еще болѣе приготовленій: устраивали гробницу въ одномъ углу церкви, а въ другомъ ставили на возвышеніи крестъ; въ третьемъ устраивали, также на возвышеніи, мѣсто для Пилата и судей и т. д. Долгое время главными сюжетами этихъ церковныхъ представленій, которыя называли то м_и_с_т_е_р_і_я_м_и, то д_у_х_о_в_н_ы_м_и д_р_а_м_а_м_и, являлись «пасхальныя мистеріи» (въ нихъ изображались крестныя страданія, смерть и воскресеніе Спасителя) и рождественскія (въ нихъ изображалось Рождество Спасителя, поклоненіе пастырей и волхвовъ). Но потомъ къ этимъ сюжетамъ стали присоединяться новые; такъ напр. къ «рождественскимъ» мистеріямъ — избіеніе младенцевъ Иродомъ и бѣгство въ Египетъ; къ пасхальнымъ — обращеніе Лонгина, самоубійство Іуды. По мѣрѣ того, какъ расширялось такимъ образомъ содержаніе мистеріи и самая сценическая обстановка ея пріобрѣтала болѣе и болѣе блеска, въ народѣ все болѣе развивался вкусъ къ церковнымъ представленіямъ. На этомъ основаніи, угождая вкусу толпы, и духовенство, въ свою очередь, весьма ревностно заботилось о томъ, чтобы сдѣлать мистерію какъ можно болѣе разнообразною и занимательною для зрителей. Уже въ XI вѣкѣ являются, кромѣ мистерій рождественскихъ и пасхальныхъ, такъ называемыя ч_у_д_е_с_а (miracles), содержаніе которыхъ заимствовалось изъ житій и вращалось около одного изъ чудесъ, совершенныхъ тѣмъ или другимъ изъ наиболѣе чтимыхъ народомъ святыхъ. Вслѣдъ за тѣмъ къ вышеупомянутымъ сюжетамъ прибавляются и еще новые: — содержаніе для мистеріи начинаютъ почерпать даже изъ евангельскихъ притчей, напр. изъ притчи о десяти дѣвахъ, о блудномъ сынѣ. Наконецъ, самыя мистеріи рождественскія и пасхальныя начинаютъ добавлять и пополнять нѣкоторыми эпизодами изъ ветхозавѣтной исторіи, которые ставятъ въ тѣсное соотношеніе съ рождествомъ и воскресеніемъ Спасителя. До насъ дошли такія рождественскія мистеріи, въ началѣ которыхъ на сцену выводились Адамъ и Ева, представлялось грѣхопаденіе перваго человѣка, изгнаніе изъ рая, братоубійство Каина; за тѣмъ являлись бѣсы и увлекали Адама, Еву и Каина въ адъ, а на сцену, одинъ за другимъ, выступали пророки: Іезекіиль, Іеремія и др. и торжественно возвѣщали наступленіе новой эры — близкое рожденіе Спасителя, которому надлежало искупить страданіями и смертью Своею грѣхи человѣчества. Дѣйствіе заключалось представленіемъ обычной рождественской мистеріи. По мѣрѣ того, какъ содержаніе рождественскихъ и пасхальныхъ драмъ такимъ образомъ расширялось, а самыя представленія ихъ начинали иногда растягивать на нѣсколько дней, въ нихъ мало-по-малу закрадывались такія начала, которыя ничего не имѣли общаго съ религіозною основою мистерій. Между лицами, дѣйствовавшими на сценѣ мистеріи, явились такія, которымъ авторы мистерій влагали въ уста рѣчи простонародныя, шутливаго или задорнаго содержанія. Родъ дьявола и бѣсовъ, которымъ приходилось выступать на сцену почти въ каждомъ церковномъ представленіи, становилась все болѣе и болѣе комическою. Наконецъ, между дѣйствіями обширныхъ сводныхъ мистерій рождественскихъ и пасхальныхъ, длившихся иногда по нѣскольку дней сряду, стали вставлять шутовскія и_н_т_е_р_м_е_д_і_и (междудѣйствія), въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись одни шуты и скоморохи, забавлявшіе зрителей своими часто вовсе не-приличными выходками или сценами, заимствованными прямо изъ народнаго быта. Все это способствовало тому, что высшее духовенство обратило наконецъ вниманіе на неумѣстность подобныхъ представленій въ стѣнахъ церкви, и послѣ долгой, упорной борьбы съ нисшимъ духовенствомъ и монашествомъ, успѣло вытѣснить мистерію изъ церквей западной Европы сначала въ церковныя ограды, а потомъ и на площадь. Это случилось не ранѣе конца XIV вѣка. Духовенство и послѣ этого долгое время оставляло за собою исключительное право на исполненіе нѣкоторыхъ ролей. Наконецъ, утвердившись на площади, мистерія сдѣлалась вполнѣ достояніемъ народа; актерами въ ней явились ремесленники и клерки (приказные), и комическая сторона мистеріи стала прямо пополняться характерами и образами изъ живой дѣйствительности. Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ духовенства, которому главнѣйшимъ образомъ предоставлено было руководствовать образованіемъ и воспитаніемъ юношества, духовная драма занесена быда въ школы, и здѣсь пріобрѣла нѣсколько особый оттѣнокъ. Какъ прежде, почти незамѣтно, закрался въ содержаніе мистеріи элементъ комическій, такъ подъ вліяніемъ схоластики, тяготѣвшей надъ школьнымъ преподаваніемъ, сталъ проявляться въ духовной драмѣ новый элементъ: — д_у_х_о_в_н_о-н_р_а_в_с_т_в_е_н_н_ы_й, о_т_в_л_е_ч_е_н_н_ы_й. На сцену школьной комедіи стали выступать, въ видѣ дѣйствующихъ лицъ, различныя д_о_б_р_о_д_ѣ_т_е_л_и и п_о_р_о_к_и, отвлеченные образы отдѣльныхъ свойствъ Божества и человѣка, такъ напр. Милосердіе, Премудрость Божія, Провидѣніе, Состраданіе, Злоба людская, Грѣхъ, Раскаяніе и т. д. Всѣ подобнымъ образомъ составленныя духовныя драмы получили названіе «н_р_а_в_с_т_в_е_н_н_ы_х_ъ п_р_е_д_с_т_а_в_л_е_н_і_й» (moralitês), такъ какъ дѣйствительно отвлеченная, схоластическая мораль являлась главною основою ихъ содержанія.
Всѣ эти перемѣны были пережиты духовною драмою въ Европѣ, въ теченіе четырехъ или пяти вѣковъ ея существованія до эпохи Возрожденія. Зародившись первоначально въ южной Франціи, драма духовная отсюда распространилась вскорѣ по всей католической Европѣ и достигла даже Польши, гдѣ явилась довольно рано — въ XII вѣкѣ. Здѣсь пришлось ей пережить почти всѣ тѣ періоды развитія, о которыхъ мы упомянули выше, и наконецъ сдѣлаться исключительнымъ достояніемъ іезуитскихъ коллегій, въ которыхъ воспитанники, подъ руководствомъ наставниковъ, нѣсколько разъ въ годъ занимались разучиваньемъ и разыгрываньемъ мистерій и пьесъ духовно-нравственнаго содержанія, писанныхъ на латинскомъ и польскомъ языкахъ. Подъ непосредственнымъ польскимъ вліяніемъ развившаяся русская образованность нашей юго-западной окраины внесла также въ свой школьный обиходъ и эти духовныя драмы. Наставники принимали на себя сочиненіе духовныхъ драмъ, а воспитанники исполненіе ихъ на сценѣ; сверхъ того студенты Кіево-могилянской коллегіи ходили на святкахъ по домамъ съ в_е_р_т_е_п_о_м_ъ (небольшимъ, ручнымъ, механическимъ кукольнымъ театромъ), и представляли на сценѣ вертепа рождественскую драму. Одинъ изъ учениковъ говорилъ рѣчи за куколъ, выступавшихъ на сцену; другіе, сопровождавшіе вертепъ, пѣли к_а_н_т_ы (религіозныя пѣсни), написанныя силлабическими стихами и прославлявшія Рождество Спасителя. Значеніе духовной драмы въ школьномъ быту считалось на столько важнымъ, что и высшія духовныя лица, руководившія воспитаніемъ юношества, посвящали досуги свои сочиненію этого рода произведеній. Такъ напр. уже о Петрѣ Могилѣ сохранилось извѣстіе, что онъ написалъ нѣсколько такихъ школьныхъ драмъ, изъ которыхъ, впрочемъ, ни одна не дошла до насъ; вообще, къ величайшему сожалѣнію нашему, намъ до сихъ поръ остаются совершенно неизвѣстными образцы духовныхъ драмъ и драматическихъ діалоговъ, въ томъ видѣ, въ какомъ они являлись въ стѣнахъ юго-западныхъ русскихъ школъ въ первой половинѣ XVII вѣка.

Только отъ послѣдней четверти XVII столѣтія намъ сохранились двѣ пьесы, принадлежащія перу плодовитаго и многосторонняго Симеона Полоцкаго, о которыхъ мы упоминали уже выше, излагая содержаніе его «Риѳмологіона». Сверхъ того, отъ конца XVII и начала XVIII вѣка дошли до насъ драматическія произведенія другаго духовнаго писателя нашего — св. Д_м_и_т_р_і_я Р_о_с_т_о_в_с_к_а_го (род. 1651, ум. 1709). Всѣхъ пьесъ св. Дмитрія Ростовскаго шесть: «Рождество Христово», «Воскресеніе Христово», «Грѣшникъ кающійся», «Эсфирь и Агасферъ». драма «Успенская», драма «Дмитріевская». По содержанію своему, всѣ эти произведенія занимаютъ середину между мистеріей и духовно-аллегорическими пьесами (moralitês). Рядомъ съ событіями и лицами, непосредственно заимствованными изъ библіи, являются и лица чисто-аллегорическія, отвлеченныя: Натура людская, Надежда, Кротость, Незлобіе, Золотой вѣкъ, Смерть, Желѣзный вѣкъ, Зависть, Брань (т. е. война), Жизнь. Пьесы начинаются, по сценическому обычаю того времени, п_р_о_л_о_г_о_м_ъ, въ которомъ актеръ въ общихъ чертахъ излагаетъ содержаніе предлагаемой зрителямъ пьесы, а иногда указываетъ и на ея связь съ современностью. Пьеса и заканчивается э_п_и_л_о_г_о_м_ъ, въ которомъ авторъ, устами другаго актера, старается усилить впечатлѣніе, произведенное пьесой, сосредоточивая всѣ отдѣльныя черты ея въ одномъ общемъ выводѣ. Пьесы Симеона Полоцкаго явились въ числѣ первыхъ театральныхъ зрѣлищъ на сценѣ московскаго придворнаго театра, который получилъ свое начало не ранѣе 1672 года, въ царствованіе Алексѣя Михайловича. Пьесы св. Дмитрія Ростовскаго, написанныя имъ еще въ Малороссіи, были играны въ «крестовой палатѣ» въ Ростовѣ, когда св. Дмитрій возведенъ былъ въ санъ митрополита ростовскаго; въ представленіи ихъ участвовали воспитанники училища, заведеннаго св. Дмитріемъ въ Ростовѣ. Любопытною чертою различія между пьесами С. Полоцкаго и Дм. Ростовскаго являются тѣ народныя сцены, заимствованныя изъ живой дѣйствительности, которыя Дмитрій Ростовскій весьма искусно и кстати вставляетъ въ середину дѣйствія своихъ духовныхъ драмъ.
До 1672 года ни духовныя драмы, ни вообще какія бы то ни было сценическія представленія не были вовсе извѣстны въ сѣверо-восточной Руси. Однакоже въ нашемъ церковномъ быту и до этого времени существовали нѣкоторые богослужебные обряды, хотя и весьма простые, весьма незамысловатые, но все же нѣсколько напоминающіе западную мистерію, въ періодъ ея первоначальнаго церковнаго развитія, когда она являлась только переходомъ отъ церковныхъ процессій къ наглядному, въ лицахъ представленному поясненію событій св. писанія. Обряды эти у насъ на Руси получили названіе д_ѣ_й_с_т_в_ъ, и такихъ дѣйствъ было у насъ извѣстно три. Древнѣйшимъ изъ нихъ является «п_е_щ_н_о_е д_ѣ_й_с_т_в_о», въ которомъ изображалось вверженіе трехъ отроковъ въ вавилонскую пещь и чудесное избавленіе ихъ ангеломъ отъ пламени; оно совершалось передъ Рождествомъ и въ Москвѣ, и по другимъ городамъ; древнѣйшее извѣстіе о совершеніи его восходитъ къ первой половинѣ XVI столѣтія 1). Другое «дѣйство», извѣстное подъ названіемъ «ш_е_с_т_в_і_я н_а о_с_л_я_т_и», происходило, начиная съ конца XVI вѣка, въ Москвѣ и по городамъ, обыкновенно въ Вербное воскресенье. Оно служило воспоминаніемъ торжественнаго входа Спасителя въ Іерусалимъ, и совершалось по особому уставу въ Москвѣ — патріархомъ, въ присутствіи самого царя; въ другихъ городахъ — архіереями, въ присутствіи воеводъ. Третье, и наиболѣе простое изъ всѣхъ — «д_ѣ_й_с_т_в_о с_т_р_а_ш_н_а_г_о с_у_д_а», происходило обыкновенно въ воскресенье передъ масляной. На площади, за алтаремъ московскаго Успенскаго собора, устраивали два мѣста: одно для патріарха, другое для государя; передъ патріаршимъ мѣстомъ, на подмостахъ, обитыхъ краснымъ сукномъ, ставили образъ Страшнаго Суда. Парь и патріархъ шествовали изъ собора на означенныя мѣста, съ крестнымъ ходомъ, при звонѣ во всѣ колокола. Послѣ пѣнія стихиръ, освященія воды и чтенія на четыре стороны евангелія, патріархъ отиралъ губкою образъ Страшнаго Суда и другія иконы, осѣнялъ крестомъ и кропилъ св. водою государя, власти духовныя и свѣтскія и всенародное множество, присутствовавшее при совершеніи обряда 2). Флетчеръ, бывшій въ Москвѣ въ 1588—89 годахъ, разсказываетъ о «пещномъ дѣйствѣ» и, между прочимъ, о томъ, какъ ангелъ слетаетъ съ церковной крыши въ пещь къ тремъ отрокамъ, къ величайшему удивленію зрителей, при множествѣ пылающихъ огней, производимыхъ посредствомъ пороха такъ называемыми х_а_л_д_е_й_ц_а_м_и, которые впродолженіе цѣлыхъ 12 дней должны были бѣгать по городу, переодѣтые въ шутовское платье, и дѣлали разныя потѣшныя штуки въ дополненіе обряда. Подробное описаніе всего обряда «пещнаго дѣйствія» сохранилось намъ вполнѣ, и мы считаемъ не излишнимъ привести его здѣсь въ томъ видѣ, какъ оно изложено академикомъ Пекарскимъ въ извѣстной книгѣ его «Наука и Литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ» 3).
1) Подъ 1548 г. упомннается о немъ въ расходныхъ книгахъ новгородскаго софійскаго архіерейскаго дома.
2) Галаховъ. Ист. Русск. Словесности древней и новой; стр. 203.
3) См. тамъ стр. 388—319 и слѣд.
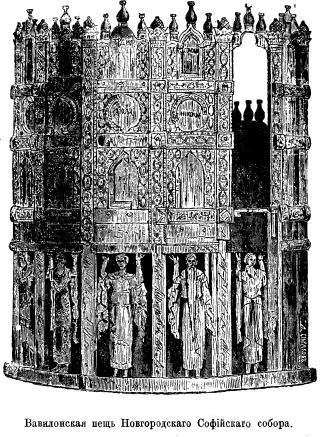
"Въ этомъ обрядѣ, къ обыкновенной архіерейской службѣ, присоединялось нѣсколько дѣйствій, имѣвшихъ цѣлью напоминаніе событія изъ исторіи ветхаго завѣта «о вверженіи въ пещь трехъ отроковъ: Ананія, Азарія и Мисаила». По этому случаю въ среду (передъ Рождествомъ Христовымъ) въ церкви разбиралось большое паникадило, а въ субботу, во время обѣдни, сдвигался амвонъ и ставилась пещь. Во всенощную весь обрядъ ограничивался тѣмъ, что дѣти которыя представляли отроковъ, и такъ называемые д_в_а х_а_л_д_е_я предшествовали святителю при вступленіи его въ соборъ, причемъ дѣти были одѣты въ стихари и вѣнцы, а халдеи въ «халдейское платье» 1). Богослуженіе должно было происходить безъ всякихъ отмѣнъ, съ нѣкоторою только торжественностью. При выходѣ предшествуетъ «халдей передъ отроки со свѣчею халдейскою, и по немъ отроки, со свѣчами, а другой халдей по отроцѣхъ». Пещное дѣйство производилось во время заутрени. Тогда какъ и во всенощную, отроки и халдеи (притомъ первые съ зажженными свѣчами) предшествуютъ святителю. По окончаніи пролога, протопопъ и священники поютъ приличныя обстоятельствамъ священныя пѣсни. Въ это время, руки отроковъ обвязывались полотенцемъ и они подводились халдеями къ святительскому мѣсту. "Егда же дойдетъ первый халдей до церкви близъ пещи, и станутъ отроки и халдеи, и указуютъ оба халдея отрокамъ на пещь пальцами, и глаголетъ первый халдеи ко отрокамъ: «дѣти царевы?» Другій же халдей поддваиваетъ тое-же рѣчь: «царевы!» И первый глаголетъ халдей: «видите-ли сію пещь огнемъ горящую и вельми распаляему?» И паки второй глаголетъ халдей: «а сія пещь уготована вамъ на мученіе». И потомъ Ананія отвѣщаетъ: «видимъ мы пещь сію, не ужасаемся ея: есть бо Богъ нашъ на небеси, ему же мы служимъ: той силенъ изъяти насъ отъ пещи сея». И по семъ Азарія глаголетъ: «и отъ рукъ вашихъ избавитъ насъ». Тоже Мисаилъ отвѣщаетъ; «а сія пещь будетъ не намъ на мученіе, а вамъ на обличеніе…» По благословеніи святителемъ и врученіи каждому свѣчи, отроки становятся опять около пещи. И въ то время единъ отъ халдей кличетъ: «товарищъ!» Другой же халдей отвѣчаетъ: «чего?» И первый халдей глаголетъ: «эти дѣти царевы?» А другой халдей поддваиваетъ: «царевы». Первый же глаголетъ: «нашего царя повелѣнія не слушаютъ?» а другой отвѣщаетъ: «не слушаютъ». Первый же халдеи говоритъ: «а златому тельцу не поклоняются?» А другой халдей: «не поклоняются». Первый халдей говоритъ: «и мы вкинемъ ихъ въ пещь»; а другаго отвѣтъ: «и начнемъ ихъ жещь!» Послѣ того дѣтей вводятъ въ пещь, и халдеи дѣлаютъ видъ, что разводятъ огонь подъ нею. Въ это время хоръ пѣвчихъ, протодьяконъ и отроки въ пещи поютъ священныя пѣсни, и въ концѣ стиха: «яко духъ хладенъ и шумящъ», «сходилъ ангелъ Господень въ пещь ко отрокамъ въ трубѣ велицѣ зѣло съ громомъ…» Халдеи, державшіе до того времени высоко свои пальмы, падали, а дьяконы опаляли ихъ при помощи свѣчей и травы плауна. При этомъ случаѣ опять завязывался разговоръ между халдеями; первый говорилъ: «товарищъ!» Второй откликался: «чего?» — Первый: «видишь-ли?» — Второй: «вижу». — Первый: «было три, а стало четыре; а четвертый грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобился сыну Божію». — Второй: «какъ онъ прилетѣлъ, и насъ побѣдилъ». — Послѣ того продолжались священныя пѣсни; халдеи выпускали изъ пещи отроковъ, служба продолжалась по уставу, съ тою разницею, что въ нѣкоторыхъ обрядахъ участвовали отроки и халдеи съ зажженными свѣчами. Послѣ утрени, пещь снималась, изображеніе ангела — также; въ церкви все приводилось въ прежній порядокъ, но впродолженіи обѣдни и вечерни того дня участвовали и отроки, и халдеи.
1) Костюмъ халдеевъ состоялъ изъ шапокъ, отороченныхъ заячьимъ мѣхомъ и вызолоченныхъ верху. На тѣлѣ у нихъ были широкія суконныя одежды, съ оплечьями изъ выбойки, Описаніе это сохранилось намъ отъ начала XVII ст. въ приходорасходныхъ книгахъ вологодскаго архіерейскаго дома.
До какой степени не взысказателенъ былъ вкусъ не только толпы, но и высшихъ сословій, видно изъ того, что царь и царица присутствовали каждый годъ при совершеніи обряда «пещнаго дѣйства», и находили въ немъ особый интересъ, хотя каждый годъ повторялось одно и то же, безъ всякаго добавленія иди измѣненія. Тѣмъ болѣе пріятно пораженъ былъ дворъ появленіемъ въ Москвѣ первой правильно-обученной и хорошо организованной труппы актеровъ, которая была способна ознакомить русскихъ людей съ «однимъ изъ великихъ благъ новаго просвѣщенія» — съ театромъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ тогда извѣстенъ большей части сѣверной и средней Европы.
Театръ устроился при дворѣ царя Алексѣя Михайловича благодаря энергическому содѣйствію знаменитаго покровителя второй супруги царя — боярина Артамона Матвѣева, «который въ духовныхъ обученіяхъ и къ царской и святительской чести надлежащихъ гражданскихъ поступкахъ зѣло обрѣтохся благоискусенъ». 15 мая 1682 г., за двѣ недѣли до рожденія Петра Великаго, царь Алексѣй Михайловичъ указалъ пріятелю Артамона Матвѣева, полковнику Николаю Ѳанъ-Стадену: «ѣхать къ курляндскому Якубусу князю и, будучи въ курляндской землѣ, приговаривать великаго государя въ службу рудознатныхъ всякихъ добрыхъ мастеровъ, которые бы руды всякія подлинно знали и плавить ихъ умѣли, да трубачей самыхъ добрыхъ и ученыхъ, да которые-бъ умѣли всякія комедіи строить»… Стадену было даже наказано: «если онъ такихъ людей въ Курляндіи не добудетъ и ему ѣхать для того во владѣнія короля свейскаго и въ прусскую землю». Съ жаромъ принялся Ѳанъ-Стаденъ за исполненіе порученія, возложеннаго на него царемъ. Изъ Риги завязалъ онъ дѣятельныя сношенія съ нѣмцами-комедіантами; уже въ іюлѣ нанялъ въ Ригѣ 8 человѣкъ актеровъ, а въ октябрѣ порадовалъ Матвѣева извѣстіемъ, что успѣлъ подговорить еще три человѣка молодыхъ, к_о_т_о_р_ы_е н_а в_с_я_к_и_х_ъ и_г_р_а_х_ъ и_г_р_а_ю_т_ъ, ч_т_о н_и_к_о_г_д_а п_р_е_д_ъ с_е_г_о н_а М_о_с_к_в_ѣ н_е с_л_ы_х_а_н_о. Увлеченный на первыхъ порахъ удачею своею, Ѳанъ-Стаденъ приглашалъ въ Россію изъ Копенгагена даже знаменитую пѣвицу того времени, Анну Паульсонъ. Но дальній путь въ полудикую Московію испугалъ нѣмцевъ: Ѳанъ-Стадену удалось вывезти изъ Европы въ Москву только одного трубача и четырехъ музыкантовъ. Но, къ великому удивленію ревностнаго Ѳанъ-Стадена, дѣло устроилось само-собою; когда, въ декабрѣ 1672 г., онъ возвратился въ Москву, то засталъ при дворѣ московскомъ труппу актеровъ, а въ Преображенскомъ — заново устроенную и снаряженную к_о_м_и_д_і_й_н_у_ю х_о_р_о_м_и_н_у.

"Ч_е_г_о п_р_і_я_т_е_л_ь Матвѣева не могъ вывезти изъ Европы въ Россію, то дала московскому государю — Нѣмецкая слобода. Нетерпѣніе Алексѣя Михайловича увидѣть при дворѣ своемъ комедію было на столько сильно, что едва Ѳанъ-Стаденъ успѣлъ выѣхать въ курляндскую землю за комедіантами, — царь, черезъ три дня послѣ рожденія Преобразователя, указалъ пастору московской лютеранской церкви, магистру Я_г_а_н_у Г_о_т_ф_р_и_д_у Г_р_е_г_о_р_и, «учинить комедію, а на комедіи дѣйствовать изъ библіи книгу Эсѳирь и для того дѣйствія устроить хоромину вновь (въ Преображенскомъ)».
Магистръ Іоаннъ Готфридъ Грегори еще въ 1662 году присланъ былъ въ Москву саксонскимъ курфирстомъ, чтобы занять мѣсто пастора при лютеранской церкви. Грегори, какъ «человѣкъ отличной учености, благочестивый, замѣчательнаго ума» (такъ писалъ о немъ курфирстъ московскому государю), въ теченіе своего десятилѣтняго пребыванія въ Москвѣ, вѣроятно успѣлъ уже привыкнуть къ русскому быту и въ значительной степени освоиться съ русскимъ языкомъ, къ тому времени, когда царь Алексѣй Михайловичъ призвалъ его положить починъ к_о_м_и_д_і_й_н_ы_м_ъ д_ѣ_й_с_т_в_а_м_ъ на Москвѣ. «С_т_р_о_е_н_і_е к_о_м_е_д_і_и для магистра Грегори не могло быть дѣломъ новымъ и неизвѣстнымъ, такъ какъ въ нѣмецкихъ школахъ и университетахъ XVII вѣка почти повсемѣстно существовалъ обычай — устроивать въ извѣстное время года публичныя представленія. Можно предполагать, что Грегори освѣжалъ только воспоминаніе своей молодости, когда ему, вмѣстѣ съ учителемъ Юріемъ Михайловичемъ, пришлось собирать по Москвѣ „дѣтей разныхъ чиновъ служилыхъ и торговыхъ иноземцевъ, всего 64 человѣка“, и начать съ ними разучивать комедію объ Эсѳири, или такъ называемое „Артаксерксово дѣйство“.
Нѣмецкая комедія понравилась великому государю; Грегори и его комедіанты были щедро награждены. Самую комедію „А_р_т_а_к_с_е_р_к_с_о_в_о д_ѣ_й_с_т_в_о“ велѣно было п_е_р_е_п_л_е_с_т_ь в_ъ с_а_ф_ь_я_н_ъ с_ъ з_о_л_о_т_о_м_ъ! Въ 1673 году пасторъ Грегори стоялъ уже во главѣ цѣлой школы мѣщанскихъ дѣтей, обучавшихся у него „к_о_м_е_д_і_й_н_о_м_у д_ѣ_л_у“, и „п_р_е_в_ы_с_о_к_а_я о_б_ы_к_л_а_я м_и_л_о_с_т_ь ц_а_р_с_к_а_г_о в_е_л_и_ч_е_с_т_в_а“ неослабно поддерживала дѣйство н_е_и_с_к_у_с_н_ы_х_ъ о_т_р_о_ч_а_т_ъ», учениковъ лютеранскаго пастора1). Это однако-же нимало не мѣшало тому, чтобы положеніе молодыхъ актеровъ было вообще весьма незавиднымъ. Оказывается, что въ началѣ своего артистическаго поприща, они не получали во время своего ученія даже и кормовыхъ денегъ. Въ 1673 г. одинъ изъ о_т_р_о_ч_а_т_ъ, «Васька Мѣшалкинъ съ товарищами» подали государю челобитную, въ которой объясняли: «отослали насъ (въ іюнѣ 1673 г.), холопей твоихъ, въ Нѣмецкую слободу, для наученія комидѣйнаго дѣла къ магистру къ Ягану Готфреду, а корму намъ ничего не учинено; и были мы, по вся дни ходя къ нему магистру и учася у него, платьишкомъ ободрались и сапожишками обносились, а пить-ѣсть нечего и помираемъ мы голодною смертію. Милосердый государь! вели намъ поденной кормъ учинить, чтобъ, будучи у того комедійнаго дѣла, голодною смертью не умереть». По этой челобитной велѣно имъ выдавать кормовыя деньги по грошу на человѣка, покамѣстъ въ ученьи побудутъ, однакожъ со свидѣтельствомъ, т. е. съ аттестаціею магистра о ихъ успѣхахъ и стараніи 2).
1) Тихонравовъ. Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра. М. 1873, стр. 4—8.
2) Забѣлинъ. Бытъ русскихъ царицъ, 482—83 стр.
Первыя пьесы, представленныя въ присутствіи царя на домашней дворцовой сценѣ, были конечно — нѣмецкія, или на скорую руку переведенныя съ нѣмецкаго. Мы даже знаемъ, что переводчикъ посольскаго приказа, Г_е_о_р_г_ъ Г_и_в_н_е_р_ъ, помогалъ магистру Грегори въ переводѣ комедій. За «Артаксерксовымъ дѣйствомъ» послѣдовали комедіи: «Ю_д_и_ѳ_ь», «И_с_т_о_р_і_я о с_т_р_а_н_с_т_в_і_и и б_р_а_к_ѣ м_о_л_о_д_а_г_о Т_о_в_і_я, с_ы_н_а Т_о_в_и_т_о_в_а», «М_а_л_а_я п_р_о_х_л_а_д_н_а_я к_о_м_е_д_і_я о п_р_е_и_з_р_я_д_н_о_й д_о_б_р_о_д_ѣ_т_е_л_и и с_е_р_д_е_ч_н_о_й ч_и_с_т_о_т_ѣ І_о_с_и_ф_а, с_ы_н_а И_з_р_а_и_л_е_в_а», «Ж_а_л_о_с_т_н_а_я к_о_м_е_д_і_я о_б_ъ А_д_а_м_ѣ и Е_в_ѣ», «Т_е_м_и_р_ъ-А_к_с_а_к_о_в_о д_ѣ_й_с_т_в_о» или Баязетъ и Тамерланъ. Подъ вліяніемъ русскаго юго-запада, въ школахъ котораго духовная драма занимала столь видное мѣсто, на новой сценѣ не замедлила явиться и русская мистерія. Мистерія эта — «С_в. А_л_е_к_с_і_й Б_о_ж_і_й ч_е_л_о_в_ѣ_к_ъ», — передѣланная съ польскаго подлинника, была написана въ честь царя Алексѣя Михайловича и представлена студентами Кіево-могилянской коллегіи на публичномъ актѣ. Въ прологѣ ея, сильно отзывающемся польскимъ вліяніемъ оригинала, видимъ даже намекъ на современный интересъ — войну съ Турціей; эта война ставится въ особенную заслугу царю Алексѣю Михайловичу, который, возлагая надежду на Бога и на святыхъ, начинаетъ борьбу «съ врагами креста Христова». Вотъ этотъ прологъ:
«Діогонесъ-философъ среди дня съ свѣчею
Человѣка нѣкгдысь шукалъ,
Шукалъ, а не нашелъ; жаденъ не далъ быти
Человѣчимъ кого мѣлъ гоноромъ учтити.
Если мудрецъ не нашелъ проста человѣка,
Шукаючи посреди лукаваго вѣка,
То бардзѣй божьяго человѣка не найдешь.
Отъ таковой вашъ-мосцовъ увольняючи працы,
Алексѣя покажетъ ото на семъ пляцы.
Тутъ же обачите, за якія справы
Божіимъ человѣкомъ сталъ въ небесной славы.
Будетъ то на пожитокъ вашъ-мосцовъ душевный
Се нашъ актъ працовичный, только не вседневный,
Будетъ той на славу пресвѣтлому и благочестивому царю Алексѣю,
Который, и въ Бозѣ, и въ святыхъ маючи надѣю,
Зъ непріятелемъ креста Христова дѣло зачинаетъ,
Але яко Константинъ, нигды не проиграетъ».
Вслѣдъ за «Алексѣемъ Божіимъ человѣкомъ» является цѣлый рядъ мистерій, принадлежащихъ плодовитому Симеону Полоцкому. Изъ нихъ, между прочимъ, особенно любопытна для насъ «Комедія о Навуходоносорѣ царѣ, о телѣ златѣ и о трехъ отроцѣхъ, въ пещи несожженныхъ», по своему отношенію къ извѣстному уже обряду «пещнаго дѣйства». Въ комедіи Симеона Полоцкаго тотъ же сюжетъ пріобрѣтаетъ уже почти вполнѣ литературную, драматическую обстановку. Въ началѣ комедіи является Навуходоносоръ, повелѣваетъ вылить изъ золота свое изображеніе и поклоняться ему, а боярину Зардану близь него устроить пещь, въ которую будетъ брошенъ тотъ, кто не захочетъ поклониться истукану. Затѣмъ, бояринъ Амиръ возвѣщаетъ царю, что уже всѣ люди стоятъ на полѣ Деирѣ. Царь приказываетъ трубить и играть гудцамъ… «И начнутъ трубити и пискати, народи же поклонятся, а тріе отроци не поклонятся, что видя Амиръ велитъ поймать ихъ…» Отроки отказываются исполнить ло велѣніе царя; царь угрожаетъ имъ смертью на кострѣ и получаетъ отъ нихъ слѣдующій отвѣтъ:
Седрахъ.
правитьНѣсть тебѣ, царю, намъ ти отвѣщати,
Богъ всемогущъ, силенъ насъ изъяти
Изъ огня люта силою своею
И освободити отъ руку твоею.
Мисахъ.
правитьКъ тому вѣждь, царю, яко прещеніе
Огня не введетъ насъ во прельщеніе
Аще же огню Богъ хощетъ ны дати,
Мы за честь его готовы страдати.
Авденаго.
правитьЖиваго Бога Небеснаго знаемъ:
Бездушный образъ смѣло обругаемъ.
Не подобаетъ твари почитати,
Творецъ есть Богъ нашъ, того и хощемъ знати.
Въ эпилогѣ этой мистеріи авторъ, по обычаю своего времени, приноситъ благодареніе царю за слушанье представленія, въ слѣдующихъ словахъ:
«Пресвѣтлый царю и благочестивый,
Богомъ вѣнчанный и христолюбивый,
Благодаримъ тя о сей благодати,
Яко изволилъ дѣйство послушати;
Свѣтлое око твое созерцаше
Комидійное сіе дѣло наше,
Имъ же ти негли не угодни быхомъ,
Яко искусства должна не явихомъ:
Разума скудость выну погрѣшаетъ,
А умъ богатый радостно прощаетъ…»
Рядомъ съ этою «комедіею» являются на московской сценѣ и другія мистеріи того же автора. Болѣе другихъ обращаетъ на себя вниманіе к_о_м_е_д_і_я о Б_л_у_д_н_о_м_ъ с_ы_н_ѣ, въ которой Симеонъ Полоцкій отнесся довольно свободно къ обработкѣ сюжета, заимствованнаго изъ евангельской притчи. Раздѣливъ всю пьесу свою на шесть частей, онъ чувствовалъ необходимость послѣ каждой изъ нихъ «примѣсить нѣчто утѣхи ради», почему и вставилъ между дѣйствіями и_н_т_е_р_м_е_д_і_и и и_г_р_а_н_і_я.
Комедія эта дошла до насъ въ современномъ изданіи, украшенномъ многими картинками, изображающими отдѣльныя сцены «Б_л_у_д_н_а_г_о с_ы_н-а» во всей полнотѣ ихъ современной сценической постановки. Одна изъ этихъ любопытныхъ картинокъ, приводимая нами здѣсь (на стр. 231), знакомитъ насъ вполнѣ съ устройствомъ русской сцены въ началѣ XVII вѣка: мы видимъ тутъ и занавѣсъ, и ковровыя кулисы, и рампу, и зрителей, посаженныхъ у самой рампы, ниже того возвышенія, на которомъ устроена сцена. На сценѣ симметрично разставлены актеры, одѣтые въ костюмы, соотвѣтствующіе потребностямъ представленія.
Театръ понравился всѣмъ; сценическія представленія производили сильное впечатлѣніе на царя и весь дворъ — и въ этомъ нельзя не видѣть одного изъ самыхъ опредѣленныхъ признаковъ близости новаго періода въ развитіи русской общественной жизни и образованности. "Театральное училище основалось въ «Москвѣ прежде славяно-греко-латинской академіи и другихъ школъ, для потѣхи великаго государя» — говоритъ г. Соловьевъ; «по всему было видно, что и другія школы не замедлятъ-, сильно чувствовалось, что отстали, сильно чувствовалось и громко говорилось, что надобно учиться: въ литературѣ, какъ и во всемъ бытѣ, явственны были признаки приближенія новаго времени…»

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ВОСЕМНАДЦАТОЙ.
правитьПредставленіе итальянской мистеріи въ XVI вѣкѣ, описанное русскимъ очевидцемъ.
править«Въ нѣкоемъ монастырѣ Флоренціи», — такъ разсказываетъ Авраамій Суздальскій 1) — «есть церковь немалая во имя Пречистой нашея Богородицы. Въ той церкви надъ передними дверьми, подъ самымъ верхомъ устроено мѣсто и лѣстница къ нему утверждена мала и хитра. И то мѣсто оболчено запонами, учинено на подобіе круговъ, съ которыхъ отъ Отца архангелъ Гавріилъ къ Дѣвѣ посланъ. Въ верху въ томъ мѣстѣ учиненъ престолъ, и на престолѣ сановитъ человѣкъ сидитъ, облеченъ въ ризу и вѣнецъ: по всему видѣти подобіе Отчее (Бога-Отца). Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ Евангеліе, а вокругъ его у подножія его хитрымъ образомъ держалось множество малыхъ дѣтей во образъ (подобіе) небесныхъ силъ и между дѣтей тѣхъ и окрестъ Отца учинено болѣе 500 свѣщей. Отъ переднихъ-же дверей до середины церкви устроенъ помостъ сторонный отъ одной стѣны до другой, на каменныхъ же столпахъ, высотою въ три сажени, а шириною въ полтретьи сажени. Помостъ тотъ весь настланъ красными тканями, а на лѣвой сторонѣ его устроена кровать съ великими господскими одѣяніями, а на кровати у возглавія сидѣлъ отрокъ благообразный, облеченъ въ дорогую пречудную дѣвическую ризу и вѣнецъ; въ рукахъ онъ держалъ книгу и тихо читалъ: „по всему видѣти и подобіемъ яко самую пречистую Дѣву Марію“. Еще на томъ помостѣ стояли наряженные четыре человѣка съ великими брадами и волосами по плечамъ, въ небольшихъ вѣнцахъ съ позлащенными кругами на верху волосъ, въ бѣлыхъ долгихъ и широкихъ одеждахъ, которыя были подпоясаны; чрезъ правое плечо подъ лѣвое перегнутъ червленый платъ; „по всему наряжены въ подобіе яко пророцы“. Все мѣсто закрыто дорогими сукнами фряжскими и завѣсами красными… Когда наполнится та церковь множествомъ людей и всѣ умолкнутъ, смотря на устроенное въ верху мѣсто, отторгнутся всѣ тѣ завѣсы и узрятъ всѣ люди наряженную по подобію чистую Дѣву Марію, сидящую на кровати „и есть видѣти прекрасно и чудно видѣніе и еще же умильно и отнюдь неизреченна веселія исполнено“. И явятся на томъ помостѣ преждереченные четыре человѣка, которые наряжены пророками, съ разными письменами въ рукахъ, т. е. древними пророчествами о схожденіи съ небесъ Сына Божія и о воплощеніи. И начнутъ они ходить по помосту, смотря каждый на свое писаніе и правою рукою указывая другъ другу на устроенное въ верху мѣсто и говоря: оттуда придетъ спасеніе языковъ. Другой, смотря на свое писаніе, говоритъ: „отъ Юга придетъ Богъ“. И начнутъ они между собою к_о_т_о_р_а_т_и_с_я (спорить), ударяя рукой по своему писанію и указывая туда и сюда; одинъ говоритъ: оттуда Богъ придетъ на „взысканіе погибшаго овчате“; другой говоритъ иное. И стязаются они между собою съ полчаса. Вдругъ отторгнутся завѣсы отъ устроеннаго въ верху мѣста и пустятъ изъ того мѣста т_ю_ф_я_ч_н_ы_й г_р_о_м_ъ въ подобіе небеснаго грома. Отъ грома того пророки невидимы будутъ, а въ верху увидятъ Бога-отца; окрестъ его болѣе 5,000 свѣщъ горѣло и малыя дѣти въ бѣлыхъ ризахъ, т. е. небесныя силы стояли: одни били въ кимволы, другіе въ прегудвицы и въ пищали (пищалки, маленькія флейты) играли; о всемъ есть великое то видѣніе чудно и радостно и отнюдь несказанно. Спустя не много времени изъ самаго того верха отъ Отца пойдетъ внизъ по двумъ веревкамъ и на двухъ кольцахъ ангелъ къ Дѣвѣ благовѣстити зачатье сына Божья: ангелъ тотъ учиненъ отрокъ чистообразенъ и кудрявъ въ бѣломъ, какъ снѣгъ, одѣяніи, украшенномъ золотомъ, съ ангельскимъ ораремъ на шеѣ и съ позлащенными крыльями. Сходя внизъ, онъ пѣлъ тихимъ гласомъ, держа въ рукахъ прекрасную вѣтвь. Дойдя до Дѣвы, онъ сталъ предъ нею и началъ говорить умильно и тихимъ голосомъ: „радуйся, Маріе! благословенна ты въ женахъ; обрѣла бо еси благодать отъ Бога и се зачнеши во чревѣ Сына, Слово Божіе, и родиши, и наречеши имя ему Іисусъ…“ Она-же вставши отвѣчала ему тихимъ дѣвическимъ гласомъ: „о юноше! какъ ты смѣлъ приблизиться къ преддверью моему и войти сюда, и говорить мнѣ недомысленные глаголы?“ Видя ея ужасъ, ангелъ сказалъ: „Маріе, не ужасайся: я архангелъ Гавріилъ, посланъ отъ Бога благовѣстить Тебѣ зачатіе Сына Божія“. Она посмотрѣла къ верху и, увидавъ Бога Отца, сидящаго на престолѣ и ниспосылающаго къ ней благословеніе, со смиреніемъ сказала: „се раба Господня; буди мнѣ по глаголу твоему!“ Ангелъ передалъ ей принесенную вѣтвь, а самъ пошелъ къ верху.
1) Авраамій, епископъ Суздальскій, былъ однимъ изъ спутниковъ митрополита Исидора на Флорентійскомъ соборѣ.
Въ то время, какъ онъ шелъ, съ верху отъ Отца полился огонь съ великимъ шумомъ; а отъ того огня вся церковь искрами наполнилася и отъ нихъ въ той церкви зажглись всѣ незажженныя свѣчи.
Ангелъ же шелъ къ верху радуяся, помавая руками сѣмо и овамо, двигая крыльями „просто и чисто видѣти, яко ему летящу“. Когда онъ дошелъ до верху, до того мѣста, откуда вышелъ, всѣ завѣсы попрежнему закрылись. Сіе чудное видѣніе и хитрое дѣланіе» — говоритъ Авраамій въ заключеніе своего повѣствованія, «мы видѣли во градѣ Ѳлорензѣ».
сочиненной Св. Дмитріемъ Ростовскимъ.
править(Въ содержаніе этой рождественской мистеріи входятъ слѣдующія дѣйствія: 1) рождество Спасителя; 2) поклоненіе пастырей и волхвовъ; 3) убіеніе младенцевъ въ Виѳлеемѣ; 4) муки Ирода.)
Въ началѣ мистеріи на сцену являются лица аллегорическія. «Натура людская» жалуется на несовершенства человѣческія и грѣхопаденіе первыхъ людей. Ее утѣшаютъ: «Надежда», «Золотой вѣкъ», «Кротость» «Незлобіе», «Радость». Но послѣ нихъ являются на сцену: «Зависть», «Желѣзный вѣкъ», «Брань» — и «Натура людская» снова опечалена. «Смерть» вступаетъ въ споръ съ «Жизнью».
Затѣмъ происходятъ длинные разговоры и пренія между другими, также аллегорическими лицами: «Небомъ», «Землею», «Милостью Божьею», «Враждой» и «Завистью». Эта часть дѣйствія заканчивается чрезвычайно курьезнымъ хоромъ Ц_и_к_л_о_п_о_в_ъ.
Цикліопы (всѣ вмѣстѣ говорятъ) :
правитьСе огнь возжигаемъ,
Въ млаты ударяемъ,
Коніи и узы
Для тебе, Медузы,
И мечи, и стрѣлы.
Въ іудейски предѣлы,
Готуемъ, гортуемъ,
Тебѣ подметуемъ;
Примайся, Цыкліопе!
Бій крѣпко, Стеропе!
Бронте, не лѣнися,
Враждѣ прислужися.
Наконецъ, на сцену выступаютъ «Виѳлеемскіе пастухи». Изъ нихъ двое: — Авраамъ и Аѳоня, ушли въ городъ, а третій, Борисъ, остался при овцахъ.
Сначала Борисъ выражаетъ свое недоумѣніе относительно долговременнаго отсутствія своихъ товарищей; потомъ тѣ возвращаются и садятся съ Борисомъ ужинать.
Пастырь 1, Борисъ.
правитьСудари мои свѣты! здорово ли живете?
Вы въ семъ мѣстѣ собраны подавно сидете.
Не видали ли моихъ товарищъ, идущихъ
Въ городъ или зъ города кошели несущихъ?
Одинъ уже и пристаръ, маленько горбатый,
Кривъ на глазъ, имя ему Аврамъ сторожатый;
Другой молодъ, именемъ Афоня названный,
Въ старомъ шубіонку, что намъ въ подпасочки данный.
Пошли въ городъ хлѣба на ужину купити,
А мене оставили овечокъ хранити.
Замѣшкали; а уже нощь темна приходитъ,
А на мене едного страхъ великъ находитъ.
Я, бросивъ и овечки, пошолъ ихъ искати
Въ городъ далеко, страшно, здѣ ихъ буду ждати
Ой, Аврамъ, Аврамъ! тойже зайшолъ на кружало?
Когда бъ ему какое тамъ лихо не стало!
Пастырь 2, Аврамъ.
правитьБорисе! чего ты здѣ, а овци покинулъ?
Борисъ.
правитьА ты для чего, въ городъ пошодши, загинулъ?
Пришолъ вечеръ, я овцы загналъ въ ограду,
А самъ уже пошолъ былъ васъ искать ко граду.
Кое васъ тамъ такъ долго лихо удержало?
Аврамъ.
правитьНе покручинься, братецъ; зайшолъ на кружало,
За алтынецъ винишка и съ парнишкомъ испивъ.
Борисъ.
правитьОтъ вѣдь я догадался! А мнѣ то не купивъ?
Аврамъ.
правитьНикакъ, купилъ и тебѣ: какъ вѣть не купить?
Малецъ, вынь ми съ кошеля. На, зволишь-ли испить?
Борисъ.
правитьНутко сядьте жъ и сами поразу напьемся.
Хлѣба купилиль?
Афоня (говоритъ).
правитьЕсть.
Борисъ.
правитьГораздо подкрѣпимся.
Афоня.
правитьВотъ тебѣ хлѣбъ, вотъ тебѣ соль, вотъ и калачи!
Кушай, старичокъ, а на насъ не ворчи.
Аврамъ.
правитьДа кушаймо жъ поскоряя, пора итти къ стаду,
Штобъ иногда какой волкъ не влѣзъ во ограду.
Аврамъ.
правитьШто, братъ? Гдѣ же гетакъ поютъ хорошонько?
Еще я такъ не слыхавъ, ты слышишь, Афонько?
Афоня.
правитьЯ вже слышу и вижду, ей, птички высоко.
Смотрѣте. Едбакъ ваше не досмотритъ око:
Ты старъ, ты на глазъ хромъ. Вотъ въ гору смотрите!
. . . . . . . . . . . . .
Борисъ и Аврамъ.
правитьЕ! е! е! видимъ, видимъ.
Афоня.
правитьА што, правда — птички?
Аврамъ.
правитьБратъ! кажется, робятки стоятъ не велички?
Афоня.
правитьСудари! и кто видалъ робята съ крылами?
Птицы то залетѣли межи облаками:
Етакъ бы хорошонько робята не пѣли.
Смотри, не смотри: видно, вотъ и полетѣли.
Борисъ.
правитьЛетѣте жъ здоровеньки, а мы поседѣмо;
Маленько покушавши, къ овечкамъ идѣмо.
Аврамъ.
правитьКогда бъ же такъ надъ стадомъ нашимъ всю ношь пѣли,
То бъ мы, ихъ слушаючи, спати не хотѣли.
Афоня! ты учися на дудкѣ играти,
Штобы мы не хотѣли да и ты дремати.
Ангелъ (къ пастырямъ).
правитьРадость, о пастыріе, отъ меня пріймѣте
И не ужасайтеся, но словамъ внемлѣте.
Радость нынѣ велія мірови явися,
Спасъ человѣческому роду родися
Отъ пренепорочныя Маріи, дѣвицы,
Небесныхъ купно земныхъ жителей царицы
Влизь града Вифлеема, въ вертепѣ глубокомъ,
Между воломъ и осломъ, на мѣстѣ высокомъ,
Въ ясляхъ, на остромъ сѣнѣ, пеленами звитый,
Нищъ лежитъ всего міра царь презнаменитый,
Тамъ убо веселыма ногама идѣте,
Достойную ему честь и поклонъ дадѣте.
Борисъ.
правитьОсударь! кто ты таковъ? Ты княжего рода?
Чаю, что князь твой отецъ или воевода?
Ангелъ.
правитьАзъ есмь архангелъ не отъ земна рода,
Но отъ небесныхъ ликовъ воевода,
Неприступну престолу Бога услугую,
И тайны того міру азъ благовѣствую,
Еже и вамъ вѣщаю, отъ Его посланный:
Тому поклонъ да будетъ отъ васъ нынѣ данный.
Аврамъ.
правитьЧаю, тебе, государь, къ князьямъ послали,
Штобъ они великому царю поклонъ дали,
Не къ намъ, нищимъ пастухамъ: гето ты заблудилъ,
Или не вслухалъ. Вѣстникъ къ намъ такій не ходилъ.
Ангелъ.
правитьАще и царь есть царемъ, нынѣ же смиренный,
Волею между скоти въ стайнѣ положенный,
Нищету возлюбивый, васъ, нищихъ, взываетъ;
Пастырь сый всѣмъ пастыремъ., васъ, пастырей, чаетъ.
Борисъ.
правитьОсударь! надобно ли что въ поклонъ понести,
Штобъ не велѣлъ, якъ нашъ князь, у шею вонъ вести?
Ангелъ.
правитьГосподь вашъ и Богъ благихъ вашихъ не требуетъ,
Не хощетъ себѣ даровъ, но Онъ да царствуетъ.
Чисто сердце въ дары тому принесите,
Вѣру, надежду, любовь ему предложите.
Глаголанная мною скорѣе сотворѣте,
Азъ буду невидимъ, вы въ вертепъ идѣте.
Борисъ.
правитьШтоже такъ итти худо? Ходѣмъ, украсѣмся,
Въ чулки, лапти новые, пойдіомъ, приберемся.
Афоня! позабирай калачи и вино,
Да и ты приберися; пойдемъ всѣ за одно.
Ангелъ пастыремъ вѣстилъ:
«Христосъ ся вамъ днесь родилъ
Въ Вифлеемѣ, градѣ Давидовомъ,
Въ колѣнѣ Іудовомъ
Отъ дѣвы Маріи».
Хотяще знать иввѣстно,
Еже имъ благовѣстно,
Въ Вифлеемъ скоро пошли,
Отроча въ ясляхъ знашли,
Матерь съ Іосифомъ.
То дивное рождество
Не изречетъ вітѣйство:
Зачала Дѣва сына въ чистотѣ
И родила въ цѣлостѣ
Дѣвства своего.
Борисъ.
правитьПостойте же вы здѣся, я пссмотрю, пойду,
Есть ли въ яслѣхъ реченный, и знова къ вамъ приду. —
Есть, братцы, есть и не спитъ, и матушка сѣдитъ,
Ангелы поютъ, и старъ Іосифъ тамъ стоитъ.
Ходѣмъ; я скажу: «здравствуй»; ты рцы: «милость пошли»;
А ты скажи: «прости намъ, что ни съ чимъ здѣсь пришли».
Аврамъ.
правитьТихонько же отопри. Не спитъ ли рожденный?
Не замай спитъ, чтобъ не былъ нами возбужденный.
Нынѣ весь міръ да играетъ:
Дѣва Христа раждаетъ,
Младенца первенца,
Небеснаго облюбенца;
Во вертепѣ днесь раждаетъ
И во яслѣхъ полагаетъ
Исусъ Христа, Бога иста,
Повиваетъ дѣва чиста.
Борисъ (поклоняется).
правитьЗдравствуй, о Спасителю, намъ нынѣ рожденный,
Самовольно во яслѣхъ смиренъ положенный!
И подушечки нѣту, одѣяльца нѣту!
Чимъ бы Тебѣ нашему согрѣтися свѣту!
На небѣ, якъ сказуютъ, втебе полатъ много;
А здѣсь что въ вертепишку лежиши убого,
Въ яслѣхъ, на остромъ сѣнѣ, между буи скоты,
Нища себе сотворивъ, всѣмъ даяй щедроты?
Это намъ, деревенскимъ, здѣ лежатъ прилично,
А Тебѣ, Спасителю, этакъ необычно.
Но, понеже извольнѣ такъ себе смиряешь,
Царь царемъ сый, нищету толику примаешь,
Буди благословенный, Боже, въ вѣки вѣковъ,
Возлюбивый насъ грѣшныхъ тако человѣковъ!
И паки реку: буди Богъ благословенный,
На спасеніе міру всему нарожденный!
И ты, того рождьшая, будь благословенна,
Ты, кормилецъ старенькій, буди же хвалимый,
Отъ него же отрокъ здѣ положенъ хранимый!
За лучшое привѣтство на насъ не дивѣте,
Пастухамъ деревенскимъ, молимся, простѣте.
Аврамъ.
правитьИ азъ ти кланяюся, Боже воплощенный,
Да насъ возвеселиши, въ плоти умаленный!
Плачеши, здѣ лежащій за грѣхи Адама.
Обрадуй же плачуща и мене, Аврама!
Дай благословеніе всѣмъ вамъ, Бога чадо!
Спаси наше, еже мы въ полѣ пасемъ, стадо!
Спаси домы наша и въ нихъ всѣхъ живущихъ!
Помилуй и насъ, нищихъ, здѣ при тебѣ сущихъ!
Мы Тя хвалимъ и хвалить будемъ по вся годы.
Да хвалятъ Тя, Спасе нашъ, во вѣки вся роды!
И тебѣ, Бога Мати, главу преклоняю,
Тебѣ, святой Осипе, челомъ ударяю:
Помолитеся за насъ къ воплощенну Богу,
Да подастъ намъ въ свояси щасливу дорогу.
Афоня.
правитьНапослѣдокъ и я нищъ къ Тебѣ припадаю.
Боже намъ нарожденный, и Тя величаю:
Буди благословенный, Боже нашъ, во вѣки,
Яко еси возлюбилъ тако человѣки!
Оставивши на небѣ златыя полаты,
Изволилъ еси пожить здѣ между быдляты.
На одномъ сѣнцы лежише, якъ какой сирота;
Всѣхъ одѣваешь, а Тя покрываетъ нагота.
Подобало-бъ, дабы мы чимъ Тя подарили,
Постлали бъ что мяконько или чимъ покрыли;
Но прости: нищи есмы, имамы ничтоже.
Прости насъ, милостивый и всещедрый Боже!
Прости и благослови и ты, Мати Богу,
И ты, святый Осипе, за милость премногу!
Идѣмо во свояси; насъ благословѣте!
Всѣ.
правитьВъ путь идущимъ и. дома сущимъ помозѣте!
Пастыріе (людемъ возвѣщаютъ).
правитьРадуйтеся, людіе! Родися Спаситель,
Истинный всего міра Богъ и откупитель.
Мы тому самовидцы, своимъ зрѣли окомъ:
При градѣ Виѳлеемѣ, въ вертепѣ глубокомъ
Лежитъ въ яслѣхъ на сѣнѣ отрочокъ маленькій,
Тамъ и матушка его, и Осипъ старенькій.
Мы имъ поклонимся да домой ступаемъ;
А, что тахъ видѣли, всѣмъ вамъ возвѣщаемъ.
Здравствуйте, радуйтеся, веселы ликуйте,
А Христа рожденнаго всѣ купно празднуйте!

XIX.
правитьПовѣсть въ XVII вѣкѣ. — Рыцарскіе романы въ русскихъ переводахъ; смѣхотворныя повѣсти. — Попытки создать самостоятельную русскую повѣсть; два главныхъ ея направленія. — Повѣсть о Горѣ-Злочастьѣ.
правитьИзлагая послѣдовательно исторію русской повѣствовательной литературы въ XVII столѣтіи, мы должны будемъ сказать нѣсколько словъ о томъ періодѣ ея развитія, который непосредственно предшествовалъ первымъ попыткамъ создать въ повѣствовательномъ родѣ нѣчто самостоятельное и при томъ основанное на условіяхъ русскаго быта.
Мы уже видѣли, каковы были первыя повѣсти и литературно-обработанныя сказки, которыя заносились къ намъ во второмъ періодѣ нашей литературы съ дальняго востока или изъ Византіи при посредствѣ южно-славянскихъ передѣлокъ и переводовъ. Нѣсколько позднѣе, сначала черезъ Псковъ и Новгородъ, а потомъ и черезъ Польшу, стали къ намъ проникать нѣкоторыя изъ западныхъ сказаній… Но, между тѣмъ, сильная потребность въ чтеніи разнообразномъ, находившая себѣ долгое время удовлетвореніе только въ однихъ Палеяхъ и хронографахъ, побуждала древне-русскаго книжника не пренебрегать и этой почвой для со-зданія повѣствованій, то поучительныхъ и назидательныхъ, то полныхъ чудеснаго и сверхъестественнаго. Однако-же авторы повѣствованій, подъ вліяніемъ религіозно-аскетическихъ воззрѣній, еще боятся отступать отъ исторической основы: они дозволяютъ себѣ только нѣкоторое незначительное украшеніе этой основы вымысломъ, только самыя ничтожныя поясненія и пополненія историческаго содержанія своихъ повѣстей русскими чертами быта и болѣе понятными для нихъ подробностями. Въ этомъ отношеніи важнымъ пособіемъ и часто главнымъ источникомъ для древне-русскихъ книжниковъ, складывавшихъ повѣсти, служили хронографы.
"Въ х_р_о_н_о_г_р_а_ф_ѣ совмѣщалась цѣлая историческая библіотека. Начинаясь сотвореніемъ міра, онъ приводилъ библейскую и церковную исторію, добавляя ее сказаніями апокрифическими, разсказывалъ о судьбахъ древнихъ народовъ, особливо римлянъ и грековъ, до паденія Византіи, переходилъ къ славянскимъ племенамъ и къ Руси, исторію которой излагалъ по лѣтописнымъ сборникамъ. Отдѣльныя произведенія вносимы были въ хронографы въ извлеченіи или же цѣликомъ, напр. исторія Александра, Троянскія сказанія и многія другія повѣсти. Говоря о сотвореніи міра, хронографъ выписывалъ толкованія отцовъ церкви, вставлялъ космографическія и географическія свѣдѣнія, разсказывалъ о греческой миѳологіи. Вслѣдствіе этого состава, изложеніе большею частью носило отрывочный, анекдотическій характеръ, потому что составители не столько заботились о внутренней связи разсказа, сколько обращали вниманіе на отдѣльные факты: — однимъ словомъ, книжники наши сдѣлали изъ хронографа (съ теченіемъ времени) цѣлую историческую энциклопедію, въ которую попадало много даже такого, что было излишне въ сочиненіи историческомъ 1). Изъ этой-то энциклопедіи да изъ многочисленныхъ, разнообразныхъ списковъ П_а_л_е_и до самаго XVII вѣка приходилось русскимъ книжникамъ почерпать всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія историческія; отсюда же почерпнули они и содержаніе нѣсколькихъ повѣстей, которымъ была придана ими литературная форма. Такъ, напр., въ числѣ повѣстей, основанныхъ на сюжетѣ историческомъ, заимствованныхъ изъ хронографовъ, нельзя не упомянуть о такихъ произведеніяхъ литературныхъ, какъ «Повѣсть о взятіи Царя-града турками», какъ «Сказаніе о Дракулѣ, воеводѣ Мутьянскомъ» или еще «Слово о дѣвицѣ, иверскаго царя дщери, Динаріи царицѣ». Первое изъ этихъ произведеній замѣчательно по своимъ подробностямъ, по обстоятельному и вѣрному описанію осады и взятія города турками. «Повѣсть о семъ событіи» — говоритъ одинъ изъ нашихъ ученыхъ — «была однимъ изъ любимыхъ чтеній на Руси; въ ней съ радостью видѣли русскіе, что послѣ паденія Греціи осталась одна земля православная — Русь, и слышали пророчество, что Руси предоставлено нѣкогда взять Седмихолмный городъ (т. е. Константинополь), воцариться въ немъ и водворить православіе въ землѣ Константина Равноапостольнаго» 2). Второе изъ упомянутыхъ нами произведеній также передаетъ факты историческіе, относящіеся къ жизни и дѣятельности Дракула, сына волошскаго воеводы Мильцы, который, по смерти отца, умертвилъ наслѣдника его и сдѣлался правителемъ Валахіи, въ половинѣ пятнадцатаго столѣтія. Коварствомъ и хитростью удачно поддерживалъ онъ независимость своей страны, отбиваясь то отъ турокъ, то отъ венгровъ. Повѣсть рисуетъ его въ самомъ мрачномъ и невыгодномъ свѣтѣ: онъ изображенъ злодѣемъ, кровожаднымъ и безпощаднымъ, и въ повѣсть внесено множество анекдотовъ о той безчеловѣчной жестокости, съ какою онъ относился и къ своимъ подданнымъ, и къ иностранцамъ. Третья изъ упомянутыхъ нами повѣстей, основанныхъ на сюжетѣ историческомъ и заимствованныхъ изъ хронографа, должна была, конечно, болѣе другихъ привлекать къ себѣ вниманіе грамотныхъ людей заманчивою оригинальностью своего содержанія. Въ ней подъ именемъ «Динары-царицы» выступаетъ историческое лице: — грузинская царица Тамара, правившая царствомъ грузинскимъ въ началѣ XIII вѣка. Въ нашемъ сказаніи о правленіи ея разсказывается слѣдующимъ образомъ:
1) Пыпинъ. Очеркъ литературной истор. стар. пов. и сказ. 212—13.
2) Н. А. Полевой. Истор. русскаго народа. V, 419.
"Динара пятнадцати лѣтъ осталась наслѣдницей «И_в_е_р_с_к_а_г_о в_л_а_с_т_о_д_е_р_ж_ц_а» Александра Мелеха, и мудро управляла народомъ. Персскій царь, услышавъ о смерти Александра, требовалъ покорности отъ его дочери; но Динара, пославъ дары, не думала отказываться отъ своей власти. Раздраженный царь пошелъ на нее войною. Страхъ овладѣлъ всѣми вельможами юной царицы: «какъ можемъ стоять противъ многаго воинства и такого персскаго ополченія?» говорили они. Мужественная Динара возбудила ихъ храбрость: «ускоримъ противъ варваръ», говорила она, «якоже и азъ иду, дѣвица, и воспріиму мужскую храбрость, и отложу женскую немощь, и облекуся въ мужскую крѣпость, препояшу чресла свои оружіемъ и возложу броню и шлемъ на женскую главу, и воспріиму копіе въ дѣвичи длани, и вступлю въ стремя воинскаго ополченія; но нехощу слышати враговъ своихъ, плѣнующихъ жребій Богоматери 1) и данныя намъ отъ нея державы, и та бо царица подастъ намъ храбрость и помощь о своемъ достояніи». Принесши молитву Богоматери въ Шарбенскомъ монастырѣ, куда (Динара) пришла «пѣша и необувенными ногами, по острому каменю и жестокому пути», она выступила противъ враговъ и, взявши копье, устремилась на персскіе лодки и поразила одного персина. Враги ужаснулись ея голоса и побѣжали. Динара же «отняла» голову персскаго царя и на копьѣ принесла ее въ Тавризъ; города покорялись ей, и она съ богатыми сокровищами воротилась въ отечество. Добыча ея, «каменіе драгое, и бисеръ, и злато, и вся царскія потребы, еже вся отъ персъ», — все это роздано было Динарою въ домы Божіи. Потомъ она правила народомъ 38 лѣтъ и оставила власть свою сродникамъ: «даже и до днесь», — такъ замѣчаетъ повѣсть — «нераздѣльно державство иверское пребываетъ, а нарицается отъ рода Давыда, царя еврейскаго, царскаго кодѣна» 2).
1) Жребій Богоматери — т. е. страну, состоящую подъ особымъ покровительствомъ Богоматери.
2) Пыпинъ. Тамъ-же стр. 218—19.
Сказанія, подобныя повѣсти о Динарѣ-царицѣ, должны были, конечно, служить весьма естественнымъ связующимъ звѣномъ для нашей повѣсти съ тѣми западно-европейскими сюжетами, въ которыхъ дана была полная свобода вымыслу: мы разумѣемъ подъ такими сюжетами собственно-рыцарскіе романы, которые стали обильно проникать къ намъ именно въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтія, подъ вліяніемъ польской литературы и науки на возникавшую образованность русскаго юго-запада. Сюда относятся напр. «Книга о Мелюзинѣ», «Исторія Петра Златые-Ключи», «Повѣсть о княгинѣ Алдорфской» и, наконецъ, «Исторія о Бовѣ-королевичѣ», которая стала до такой степени любимымъ сюжетомъ въ нашей повѣствовательной литературѣ, что, послѣ многихъ передѣлокъ, перешла даже въ литературу народную, гдѣ и доселѣ еще встрѣчается между нашими «лубочными изданіями». Образцомъ всѣхъ подобнаго рода рыцарскихъ романовъ, перенесенныхъ на почву русской повѣсти, можетъ служить перешедшая къ намъ изъ чешской литературы «п_о_в_ѣ_с_т_ь у_м_и_л_и_т_е_л_ь_н_а_я о Б_р_у_н_ц_в_и_г_ѣ, к_о_р_о_л_е_в_и_ч_ѣ ч_е_ш_с_к_і_я з_е_м_л_и, и о е_г_о в_е_л_и_к_о_м_ъ р_а_з_у_м_ѣ и х_р_а_б_р_о_с_т_и, к_а_к_о о_н_ъ х_о_д_и_л_ъ в_ъ м_о_р_с_к_и_х_ъ о_т_о_ц_ѣ_х_ъ с_ъ в_е_л_и_к_и_м_ъ з_в_ѣ_р_е_м_ъ л_ь_в_о_м_ъ».
"Оставшись по смерти отца королемъ чешскимъ, Брунцвикъ жаждалъ прославиться рыцарскими дѣяніями, бросилъ свою молодую жену, и пустился въ море съ избранными спутниками. Долго они плавали безъ всякихъ приключеній, наконецъ жестокая буря настигла ихъ, корабль увлеченъ былъ теченіемъ къ м_а_г_н_и_т_н_о_й горѣ, притягивавшей къ себѣ всѣ корабли, приближавшіеся къ ней на пятнадцать миль. Путники успѣли спастись на берегъ, но запасы ихъ истощились и, наконецъ, въ живыхъ осталось ихъ всего двое: — Брунцвикъ и старый рыцарь, его дядька. Однако же и изъ этихъ двоихъ удалось спастись только одному королевичу: мудрый дядька зашилъ его въ конскую кожу, обмазалъ эту кожу кровью и положилъ на горѣ; черезъ нѣсколько. времени прилетѣла птица Н_о_г_ъ, которая въ извѣстное время появлялась на этомъ островѣ; схватила она зашитаго въ конскую кожу Брунцвика и унесла въ далекія страны (куда человѣкъ можетъ дойти только въ три года) въ свое гнѣздо. Королевичъ поубивалъ всѣхъ птенцовъ Нога-птицы, которымъ это пернатое чудовище отдало его на съѣденіе, и отправился искать дальнѣйшихъ приключеній: бродя по горамъ и отыскивая признаковъ жилья человѣческаго, рыцарь услышалъ страшный зыкъ: — оказалось, что это левъ бросился съ дракономъ-василискомъ Брунцвикъ помогъ льву убить десятиглаваго василиска, и съ той поры благодарный левъ не покидалъ королевича ни на минуту Вмѣстѣ отправились они черезъ море къ городу, который Брунцвикъ увидѣлъ съ высокаго дерева. На дорогѣ попалась имъ к_а_р_б_у_н_к_у_л_о_в_а_я г_о_р_а и королевичъ откололъ отъ нея себѣ большой самоцвѣтный камень. Но, придя въ завидѣнный издали городъ, Брунцвикъ ужаснулся, когда увидѣлъ, что въ томъ городѣ живутъ какіе-то чудовищные люди, а надъ ними царствуетъ царь Алимбрусъ, а у того царя Алимбруса двѣ пары глаз — одни спереди, другіе сзади головы. Царь этотъ обѣщалъ Брунцвика пропустить въ его царство, если тотъ освободитъ его царскую дочь изъ-подъ власти ужаснаго василиска. Королевичъ на кораблѣ отправился въ гнѣздо василиска, — городъ, окруженный тройною стѣною съ троими воротами, которыя оберегались чудовищами. При помощи льва, королевичъ одолѣваетъ чудовище, проникаетъ въ городъ и находитъ тамъ, среди изумительныхъ сокровищъ, красавицу, по имени Африку, находившуюся въ неволѣ у жестокаго василиска; послѣ долгой битвы съ василискомъ и окружавшими его гадами, чудовищами и п_р_и_в_и_д_ѣ_н_і_я_м_и морскими, Брунцвикъ остался побѣдителемъ, излѣчилъ раны кореньями, принесенными ему львомъ, и возвратилъ красавицу Африку отцу ея, Алимбрусу Царь предложилъ дочь свою въ жены королевичу, давалъ за нею огромныя богатства въ приданое — но Брунцвикъ отъ всего отказался, и сталъ проситься на родину Такъ какъ царь Алимбрусъ не хотѣлъ его отпустить, то Брунцвикъ (при помощи случайно отысканнаго имъ м_е_ч_а-к_л_а_д_е_н_ц_а, «который тому служитъ, кого любитъ, и убиваетъ въ одинъ разъ столько, сколько владѣлецъ его захочетъ») вырубаетъ все царство Алимбруса и отплываетъ вмѣстѣ со львомъ на родину. Онъ успѣваетъ прибыть къ стольному городу Прагѣ, въ то самое время, когда молодая жена его, по истеченіи урочнаго времени, понуждаемая отцомъ своимъ, снова уже собиралась выйти замужъ. Повѣсть оканчивается такимъ образомъ: «и тако Брунцвикъ поживѣ въ своемъ королевскомъ величествѣ тридцать пять лѣтъ, и приживъ съ Неоменіею (женою своею) единаго сына, нарече имя ему Владиславъ, и въ доброй старости скончася и погребенъ бысть честно. Мечъ же тотъ, по смерти Брунцвиковѣ, не имѣя силы и бысть яко протчіи; левъ же, по смерти Брунцвиковѣ, вельми нача тужити и тосковати по Брунцвикѣ, и съ тоя великія тоски и жалости нача рыти землю; изъ очію его, яко струи, слезы текуще, и приде левъ на гробъ къ Брунцвику и въ жалости вельми воскричалъ, и паде на землю мертвъ, и тако скончася» 1).
1) Пыпинъ. Ист. стар. пов. и ск., 224—26.
Но польское вліяніе литературное не ограничилось только пересажденіемъ на нашу почву средневѣковыхъ рыцарскихъ романовъ западной Европы: — тѣмъ же путемъ занесены были къ намъ и многочисленные сборники легкихъ, шутливыхъ разсказцевъ и анекдотовъ, которые изъ Франціи и Италіи распространялись въ XIV вѣкѣ по всей средней Европѣ, подъ именемъ н_о_в_е_л_л_ъ и ф_а_ц_е_ц_і_й. Къ намъ эти сборники проникли черезъ Польшу, въ началѣ XVII вѣка, подъ называніемъ п_р_и_к_л_а_д_о_в_ъ, ж_а_р_т_ъ (т. е. шутливыхъ разсказовъ), с_м_ѣ_х_о_т_в_о_р_н_ы_х_ъ п_о_в_ѣ_с_т_е_й и т. д. 1). Обширные сборники этого рода произведеній, по мѣрѣ пробужденія у насъ потребности въ легкомъ чтеніи, получали все большее и большее распространеніе, не смотря на все ничтожество своего содержанія, не смотря и на чрезвычайную грубость своего изложенія, переполненнаго множествомъ полонизмовъ и промаховъ противъ русскаго языка. Сборники эти, очевидно, переходили на сѣверо-востокъ Руси съ кіевскаго юго-запада, гдѣ, благодаря сліянію двухъ народностей и безпрерывной борьбѣ и сношеніямъ Руси съ Польшей, польскій языкъ былъ не только въ совершенствѣ извѣстенъ всѣмъ русскимъ, но даже и оказывалъ на нихъ весьма дурное вліяніе, по отношенію къ порчѣ ихъ собственнаго языка и слога. Впрочемъ, сборники ж_а_р_т_ъ и с_м_ѣ_х_о_т_в_о_р_н_ы_х_ъ повѣстей не только переводились и не всегда цѣликомъ переносились къ намъ на Русь: — произведенія, помѣщаемыя въ нихъ, иногда пополнялись и русскими сюжетами или передѣлывались въ примѣненіи къ русскимъ нравамъ и быту: такъ напр. въ подобныхъ сборникахъ, къ числу различныхъ анекдотовъ о женщинахъ, присоединялись нерѣдко и «слова о злыхъ женахъ» и «бесѣды отца съ сыномъ о женской злобѣ», въ которыхъ выражались тѣ же воззрѣнія на отношенія мужчины къ женщинѣ, съ какими мы уже встрѣчались при разборѣ памятниковъ нашей древней письменности. Такимъ же образомъ, въ число анекдотовъ и новеллъ заносились и народные разсказы о царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ, и весьма распространенные между нашими грамотниками XVII вѣка пересказы о спорѣ «жидовскаго философа Тараски съ хромымъ скоморохомъ», который своею смѣлостью и находчивостью вынуждаетъ наконецъ «Тараску» отказаться отъ состязанія о превосходствѣ закона еврейскаго надъ христіанскимъ.
1) С_м_ѣ_х_о_т_в_о_р_н_а_я п_о_в_ѣ_с_т_ь — тоже, что — ф_а_ц_е_ц_і_я.
Не разъ уже приходилось намъ поминать выше о томъ, что главною чертою нашей литературы третьяго періода (отъ временъ Грознаго до половины XVII в.) является именно зарожденіе самосознанія въ наиболѣе образованныхъ, грамотныхъ слояхъ общества. Въ этомъ періодѣ впервые и начинаетъ высказываться положительный и опредѣленный взглядъ на дѣйствительность. Наступаетъ время разсужденія, наблюденія надъ тѣмъ, что окружаетъ человѣка, и чѣмъ онъ живетъ; фантазія начинаетъ почерпать свои образы изъ живаго наблюденія надъ дѣйствительностью; является, наконецъ, возможность повѣсти не переводной, не заимствованной, а представляющей собою вѣрный разсказъ о томъ, что совершалось въ дѣйствительной, окружавшей автора русской средѣ. Первые опыты самостоятельныхъ произведеній въ повѣствовательномъ родѣ появляются у насъ въ XVII столѣтіи, и въ нихъ рѣзко обозначаются два направленія, обусловливаемыя не только общечеловѣческою склонностью смотрѣть на всякое явленіе съ двухъ противуположныхъ точекъ зрѣнія, но и тѣмъ двоякимъ настроеніемъ, тѣмъ двоякимъ способомъ воззрѣнія на дѣйствительность, который долженъ былъ преобладать въ средѣ лучшихъ русскихъ людей XVII вѣка.
И вотъ, въ русской повѣствовательной литературѣ этого времени мы впервые встрѣчаемся съ шутливою сатирою, осмѣивающею дѣйствительность и ея недостатки или обрисовывающею бытъ современнаго общества въ формѣ легкаго игриво-набросаннаго очерка русскихъ нравовъ. Къ такого рода произведеніямъ принадлежатъ всѣ тѣ, въ которыхъ осмѣивается жалкое состояніе современнаго судопроизводства, корыстолюбіе и несправедливость судей и страшная, часто нескончаемая продолжительность тяжебъ, развившая и питавшая сутягъ и ябедниковъ всякаго рода. Сюда относится напр. «Повѣсть о судьѣ Шемякѣ», или такъ называемый «Шемякинъ судъ», «Повѣсть о Ершѣ Ершовѣ, сынѣ Щетинниковѣ», извѣстная въ другомъ видѣ и подъ другимъ названіемъ: «Списокъ суднаго дѣла о тяжбѣ Леща съ Ершомъ». Послѣднее произведеніе принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которыя, подъ названіемъ «челобитныхъ», осмѣивали формы и рѣшенія судовъ, излагая при томъ все содержаніе повѣствованія запутаннымъ' и темнымъ слогомъ, господствовавшимъ въ дѣловыхъ бумагахъ современнаго судопроизводства. Дѣйствующими лицами въ этихъ произведеніяхъ являются: бояринъ О_с_е_т_р_ъ, воевода С_о_м_ъ, выборные С_у_д_а_к_ъ и Щ_у_к_а, челобитчикъ Л_е_щ_ъ и ябедникъ Е_р_ш_ъ. Подобная же сатира на лукавство и любостяжаніе разныхъ особъ духовнаго сословія выразилась въ «Повѣсти о Курѣ (т. е. о пѣтухѣ) и Лисѣ». Сюда же* слѣдуетъ, наконецъ, отнести и цѣлый рядъ повѣстей и въ прозѣ, и въ стихахъ «о происхожденіи винокуренія», и «о хлѣбномъ питіи», «о высокоумномъ» хмѣлѣ, и т д., въ которыхъ выставляется на видъ пристрастіе къ хмѣльнымъ напиткамъ и подробно излагается губительное ихъ дѣйствіе. Хмѣль является въ подобныхъ разсказахъ молодцомъ, который съ гордостью говоритъ о себѣ: «я — хмѣль, и происхожу отъ рода великаго и знатнаго; я — силенъ и богатъ, хоть добра у меня за душою нѣтъ никакого; ноги у меня тонки — за то утроба прожорлива, и руки мои обхватываютъ всю землю. Голова у меня высокоумная, языкъ многорѣчивый, а глаза мои не вѣдаютъ стыда» Въ числѣ подобныхъ шутливо-сатирическихъ произведеній, первое мѣсто, по простотѣ изложенія и по вѣрному описанію подробностей современнаго быта, занимаетъ «Исторія о россійскомъ дворянинѣ Фролѣ Скобѣевѣ и стольной дочери Нардинъ-Нащокина Аннушкѣ». Герои повѣсти — плутоватый и бѣдный новогородскій дворянинъ, занимающійся ябедой по судамъ; путемъ пронырства и различнаго рода обмановъ, онъ успѣваетъ обратить на себя вниманіе А_н_н_у_ш_к_и, дочери боярина и царскаго любимца, и даже тайкомъ — жениться на ней помимо воли ея отца; тѣмъ же путемъ обмановъ и ухищреній, къ какимъ могъ быть способенъ только подъячій XVII вѣка, Фролъ, послѣ этого, успѣваетъ и утолить гнѣвъ родителей Аннушки и даже настолько войти въ милость къ тестю, что тотъ, по смерти своей, записываетъ на имя зятя все свое имѣнье, хотя при жизни и называлъ его отъявленнымъ плутомъ. Повѣсть оканчивается описаніемъ того благоденствія, которое успѣлъ пріобрѣсть своими плутнями Фролъ Скобѣевъ, сдѣлавшійся человѣкомъ богатымъ и знатнымъ.
Но если нѣкоторая часть нашего общества въ XVII столѣтіи, сознавая несостоятельность современныхъ общественныхъ по-рядковъ, способна была смѣяться надъ ними, и представлять въ легкихъ, шутливыхъ очеркахъ картину далеко неутѣшительныхъ нравовъ и недостатки, преобладавшіе въ средѣ современниковъ, — то ужъ, конечно, въ грамотной средѣ нашей должно было выразиться и противуположное настроеніе нравственное, которое не могло довольствоваться шуткой и сатирой. Мрачная, тяжелая дѣйствительность, которая нашла себѣ такихъ энергическихъ историковъ и обличителей въ лицѣ очевидцевъ-писателей — Котошихина и Крижанича — тягостно отзывалась на многихъ лучшихъ представителяхъ современной русской интеллигенціи. Обрядовая неподвижность и полное отсутствіе самостоятельной жизни общественной не давали никакого простора развитію отдѣльной личности, подавляли ея нравственныя и умственныя силы: и жизнь семейная, — въ которой женщина не имѣла никакого значенія, а дѣти считались рабами отца, — жизнь государственная, въ которой мало оказывалось уваженія къ личнымъ способностямъ и заслугамъ гражданина — все это вмѣстѣ было до такой степени неудовлетворительно, что должно было отражаться на нравственной сторонѣ мыслящаго большинства самымъ неблагопріятнымъ образомъ. Неудивительно, что часть этого большинства стремилась, подъ вліяніемъ вышеуказанныхъ условій общественнаго строя, къ затратѣ силъ своихъ въ самомъ широкомъ и безобразномъ разгулѣ и бражничаньи, которыя не сдерживались никакою нравственною уздою, никакими заявленіями со стороны общественнаго мнѣнія. Другая часть избирала иной путь — полное отреченіе отъ жизни и ея соблазновъ, монастырское затворничество, разрывъ со всѣмъ живымъ, имѣющимъ значеніе въ жизни и для жизни. Люди, избиравшіе этотъ путь, всецѣло старались предать себя на служеніе Богу и на исполненіе тѣхъ обязанностей, которыя налагаются на каждаго христіанина религіею. Но и религіозное настроеніе этихъ людей было почти также мрачно и непривѣтливо, какъ та суровая дѣйствительность, которая вынуждала ихъ избрать «путь спасенія»: — они неспособны были проникнуться высшими началами христіанской любви, составляющей главную сущность христіанскаго ученія, и затрачивали свои силы только въ строгомъ соблюденіи обрядовой стороны религіи, нисходя до мельчайшихъ ея частностей, и часто подвергая себя жестокимъ, почти невыносимымъ самоистязаніямъ. Кромѣ того, въ сознаніи этихъ людей, исключительно преданныхъ дѣлу «спасенія души» своей, [религія постоянно являлась не иначе, какъ въ видѣ борьбы двухъ главныхъ началъ: добраго и злаго, мрачнаго и свѣтлаго. Недостаточно было угождать Богу вѣрою и добрыми дѣлами: нужно было еще постоянно бороться съ дьяволомъ и служащими ему бѣсами. Малѣйшее опущеніе, малѣйшее послабленіе себѣ или несоблюденіе обряда — подвергали провинившагося власти мрачныхъ духовъ, которые являлись ему въ видѣ страшныхъ чудовищъ и не щадили изобрѣтательности на измышленіе самыхъ ужасныхъ мукъ ему и при жизни, и послѣ смерти. Такое мрачное религіозное настроеніе безпрестанно приводило человѣка къ сознанію своего ничтожества, лишало его бодрости въ борьбѣ съ жизнью, отнимало у него надежду на будущее и часто дѣлало его жертвою первой случайности. Это же мрачное настроеніе нравственное выразилось и въ повѣствовательной литературѣ XVII столѣтія — вообще богатой сознательнымъ и живымъ изображеніемъ русской дѣйствительности — въ множествѣ произведеній назидательнаго характера, въ которыхъ главную роль играетъ слабость и несостоятельность современнаго русскаго человѣка, указывается на преобладаніе дьявола во всемъ житейскомъ и, вслѣдствіе этого, на отреченіе отъ жизни, — на монастырь — какъ на единственный возможный путь къ спасенію. Въ числѣ произведеній, рисующихъ намъ дѣйствительность XVII вѣка подъ вліяніемъ такого мрачнаго, религіозно-назидательнаго направленія, слѣдуетъ, конечно, упомянуть «Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ» и одинъ изъ лучшихъ памятниковъ нашей. древней литературы — «Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ, какъ Горе-Злосчастье довело молодца во иноческій чинъ» 1).
1) Повѣсть эта была отыскана въ 1856 г. А. Н. Пыпинымъ, въ одномъ изъ сборниковъ XVII вѣка, принадлежащемъ Имп. публ. библіотекѣ.
Первое произведеніе, чрезвычайно любопытное по той подробности, съ какою описываются въ немъ черты современнаго быта и нравовъ, основывается на сюжетѣ весьма распространенныхъ въ средневѣковой литературѣ разсказовъ о «чудесахъ Богоматери» 1) Сынъ купца, Савва Грудцынъ, заѣхавъ на чужую сторону, предается безнравственной и разгульной жизни, и наконецъ, въ необузданномъ стремленьи къ удовлетворенію своихъ желаній, продаетъ душу свою дьяволу, давши ему на себя «р_у_к_о_п_и_с_а_н_і_е». Затѣмъ слѣдуетъ въ повѣсти описаніе цѣлаго ряда самыхъ разнообразныхъ приключеній и подвиговъ Саввы, дѣйствующаго по наущенію и при помощи злаго духа. Наконецъ, юноша заболѣваетъ и дьяволъ начинаетъ его мучить, требуя исполненія условія, скрѣпленнаго рукописаніемъ Саввы. Среди тяжкихъ страданій, Саввѣ является во снѣ пресвятая Богородица, съ Іоанномъ Богословомъ и Петромъ митрополитомъ, и обѣщаетъ избавить несчастнаго отъ гибели, если онъ рѣшится поступить въ монастырь. Юноша соглашается, и Богородица вынуждаетъ дьявола возвратить ему р_у_к_о_п_и_с_а_н_і_е; послѣ этого, Савва раздѣляетъ все имѣніе нищимъ и поступаетъ въ Чудовъ монастырь.
1) Нѣкоторые изъ подобныхъ разсказовъ являлись даже въ видѣ мистерій на средневѣковой церковной сценѣ.
Содержаніе «Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ», заканчивающейся точно также поступленіемъ н_е_с_ч_а_с_т_н_а_г_о м_о_л_о_д_ц_а въ монахи, отличается отъ только-что изложенной нами повѣсти и внѣшней формою своею, и содержаніемъ. Повѣсть написана стихами, напоминающими складомъ своимъ народныя пѣсни, и въ особенности тѣ изъ нихъ, которыя извѣстны подъ названіемъ «духовныхъ стиховъ», и въ которыхъ, собственно, размѣръ пѣсни является нѣсколько измѣненнымъ, вслѣдствіе книжнаго вліянія. Содержаніе же повѣсти, которую мы приводимъ цѣликомъ въ концѣ этой главы, чрезвычайно просто. «Горе-Злосчастье», олицетворенное въ страшномъ и насмѣшливомъ образѣ существа, одареннаго сверхъестественнымъ могуществомъ, преслѣдуетъ молодца, который не видитъ ни въ чемъ и ни въ комъ себѣ поддержки, не можетъ найти ея и въ ограниченномъ запасѣ своихъ слабыхъ, ничтожныхъ силъ нравственныхъ; долго и напрасно пытается онъ всѣми путями избѣгнуть страшнаго врага своего; но только на одномъ пути не встрѣчаетъ его: — Горе-Злосчастье покидаетъ его только у воротъ святой обители, подъ кровъ которой несчастный молодецъ наконецъ прибѣгаетъ, ища успокоенія.
Повѣсть о «Горѣ-Злосчастьѣ» важна для насъ не только, какъ прекрасное, дѣйствительно-поэтическое отраженіе мрачныхъ сторонъ современной общественной жизни и тягостнаго нравственнаго безсилія, которое вырабатывалось ея невыгодными условіями: — произведеніе, это не менѣе важно для насъ и по той непосредственной, ограниченной связи съ почвою нашей народной, устной словесности, какая слышится въ каждомъ словѣ этой начальной повѣсти, чувствуется во всемъ ея заунывномъ мотивѣ, хватающемъ за самыя живыя и чувствительныя струны русскаго сердца. Не подлежитъ никакому сомнѣнію то, что «Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ» должна была точно также непосредственно вырости и развиться на основѣ народныхъ сказокъ и пѣсенъ «о Горѣ» и «Нуждѣ», въ которыхъ эти стороны человѣческаго бытія также точно олицетворяются и почти также наглядно изображаются, какъ страшное «Горе-Злосчастье», преслѣдующее молодца. Особенно близкою къ этому образу кажется намъ извѣстная пѣсня, помѣщенная уже въ сборникѣ Кирши Данилова 1):
А и горе-горе, гореваньице!
А и въ горѣ жить — некручинну быть;
Нагому ходить — нестыдитися,
А и денегъ нѣтъ — передъ деньгами,
Появилась гривна — передъ злыми дни.
Не бывать плѣшатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго,
Не утѣшити дитя безъ матери,
Не скроить атласу безъ мастера.
А и горе-горе, гореваньице,
А и лыкомъ горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я отъ горя во темны лѣса —
А горе прежде вѣкъ зашелъ;
А я отъ горя въ почестной пиръ —
А горе зашелъ, впереди сидитъ;
А я отъ горя на царевъ кабакъ —
А горе встрѣчаетъ, ужъ пиво тащитъ!
Какъ я нагъ-то сталъ, насмѣялся онъ!
1) Сборникъ былинъ и пѣсенъ, составленный какимъ-то Киршею Даниловымъ, принадлежитъ къ концу XVII или началу ХѴIII столѣтія.
Другая, подобная же пѣсня, не поминая о Горѣ, съ ѣдкой ироніей изображаетъ наготу и бѣдность, и въ словахъ ея, повидимому веселыхъ и потѣшныхъ, слышится глубокая, затаенная грусть, воспитанная тяжкою нуждою:
У дороднаго добра-молодца
Много было на службѣ послужено —
На печи было въ волю полежано;
Дослужился я, добрый молодецъ, до край-печи.
У дороднаго добра-молодца
Много было на службѣ послужено —
Съ кнутомъ за свиньями похожено;
Много цвѣтнаго платья поношено —
По подъ-оконью онучъ было попрошено;
На добрыхъ коняхъ было поѣзжено —
На чужія дровни присѣдаючи,
Ко чужимъ дровамъ приставаючи;
У дороднаго добра-мододца
Много было на службѣ послужено, —
Много сахарнаго куса поѣдено —
На, поварняхъ было посижено,
Кусковъ и оглодковъ попрошено,
Потихоньку, безъ спросу, потаскано:
Голиками глаза выбиты,
Ожегомъ 1) плеча поранены…
1) Ожегъ — шестъ, деревянный крюкъ, служащій кочергою.
Въ сказкахъ нашихъ мы также встрѣчаемъ много мотивовъ, близкихъ къ тому, который послужилъ основаніемъ скорбной «Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ». «Горе» въ сказкахъ также является въ видѣ. существа, преслѣдующаго бѣдняковъ-горемыкъ, сопровождающаго ихъ на всѣхъ путяхъ жизни; особенно живо помнится намъ, въ одной изъ подобныхъ сказокъ, разсказъ о томъ, какъ голодный бѣднякъ, возвращаясь съ угощенія богача-сосѣда, у котораго не нашлось ему за столомъ мѣста, старается себя утѣшить тѣмъ, что затягиваетъ пѣсню. Вдругъ слышитъ онъ, что кто-то ему сзади подпѣваетъ… «Кто тамъ поетъ?» спрашиваетъ испуганный бѣднякъ. «Это — я, Горе, тебѣ подтягиваю; я вездѣ съ тобою, и нигдѣ отъ тебя не отстану», — отвѣчаетъ бѣдняку постоянный, неотвязчивый спутникъ его жизни… Въ нѣсколькихъ сказкахъ, впрочемъ, спознавшіеся съ Горемъ бѣдняки изображаются болѣе энергическими и самостоятельными, нежели молодецъ, изображенный въ повѣсти XVII вѣка: они не избѣгаютъ Горя, не пытаются уйти отъ него, а вступаютъ въ открытую борьбу съ нимъ, и побѣждаютъ его хитростью или упорствомъ въ трудѣ. Но, во всякомъ случаѣ, нельзя отрицать того, что вышеупомянутыя нами произведенія народной фантазіи должны были оказать вліяніе на безъимяннаго автора «Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ», должны были запасть въ его душу, и подъ вліяніемъ его личнаго творчества, возбуждаемаго и подстрекаемаго въ развитіи тягостными условіями современной дѣйствительности, должны были явиться въ формѣ новаго и прекраснаго произведенія, которому суждено было, рядомъ съ другимъ произведеніемъ — «Словомъ о п. Игоревѣ» — занять видное мѣсто въ исторіи нашей древне-русской литературы. Оба эти памятника, — не смотря на полное несходство въ содержаніи, не смотря на принадлежность къ двумъ совершенно различнымъ эпохамъ древне-русской жизни — могутъ однако же быть сближены и сопоставлены съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ почвѣ безъискуственной, устной народной словесности. И «Слово о п. Игоревѣ», и «Повѣсть о Горѣ Злосчастьѣ» — одинаково создались на основѣ народныхъ сказаній, и этой народной основы б_ы_л_и_н_ъ д_а_в_н_я_г_о в_р_е_м_е_н_и въ Словѣ, основы п_ѣ_с_е_н_ъ и с_к_а_з_о_к_ъ о Г_о_р_ѣ въ повѣсти XVII вѣка, не могла стереть наложенная на эти произведенія печать личнаго творчества. Подобнымъ произведеніямъ, органически-истекавшимъ изъ чистаго источника народной поэзіи, къ сожалѣнію, не суждено было развиться вполнѣ на нашей литературной почвѣ; пѣвцу «Слова о п. Игоревѣ» пришлось жить за полвѣка до грозной татарщины, такъ гибельно отозвавшейся пробѣлами въ исторіи нашего нравственнаго и умственнаго развитія; автору «Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ» пришлось, среди печальной и сумрачной дѣйствительности XVII вѣка, создавать свои поэтическіе образы наканунѣ эпохи великихъ преобразованій Петра, которому суждено было иначе направить русскую жизнь, указать русскимъ силамъ настоящее, живое и полезное примѣненіе, проложить для русскихъ молодцовъ иной путь ко спасенію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и надолго разлучить русское творчество со всѣми идеалами, воспитанными древнерусскою жизнью и порожденными народной фантазіей.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ,
правитьПовѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ,
правитьБудетъ молодецъ уже въ разумѣ въ безлобіи,
И возлюбили его отецъ и мать;
Учить его начали, наказывать,
На добрыя дѣла наставлять 1).
"Милое ты наше чадо!
"Послушай ученія родительскаго,
"Ты послушай пословицы
"Добрыя, и хитрыя, и мудрыя!
"Не будетъ тебѣ нужды великія,
"Ты не будешь въ бѣдности великой:
"Не ходи, чадо, въ пиры и въ братчины;
"Не садися ты на мѣсто большее;
"Не пей, чадо, двухъ чаръ за едину.
"Еще, чадо, не давай очамъ воли;
"Не прельщайся, чадо, на добрыхъ красныхъ женъ…
"Не бойся, не бойся мудра, бойся глупа,
"Чтобы глупыя на тя не подумали,
"Да не сняли бы съ тебя драгихъ порть, 2)
"Не доспѣли-бы тебѣ позорства и стыда великаго,
"И племени укору и поносу 3) бездѣльнаго,
"Не ходи, чадо, къ костарямъ 4) и корчемникамъ;
"Не знайся, чадо, съ головами кабацкими;
"Не дружися, чадо, съ глупыми, не мудрыми;
"Не думай украсти-ограбити,
"И обмануть-солгать и неправду учинить.
"Не прельщайся, чадо, на злато и серебро:
"Не сбирай богатства неправаго;
"(Не) буди послухъ лжесвидѣтельству.
"А зла не думай на отца, на матерь
"И на всякаго человѣка. —
"Да и тебе покрыетъ Богъ отъ всякаго зла.
"Не безчествуй, чадо, богата и убога,
"А имѣй, всѣхъ равно по-единому;
"А знайся, чадо, съ мудрыми,
"И (съ) разумными водися,
"И съ друзи надежными дружися,
«Которые бы тебя злу не доставили.»
Молодецъ былъ въ то время-се малъ и глупъ, —
Не въ полномъ разумѣ и не совершенъ разумомъ;
Своему отцу стыдно покоритися,
И матери поклонитися,
А хотѣлъ жити какъ ему любо!
Наживалъ молодецъ пятьдесятъ рублевъ,
Залѣзъ 5) онъ себѣ пятьдесятъ друговъ;
Честь его, яко рѣка текла;
Друговья къ молодцу прибивалися,
(Въ) родъ-племя причиталися.
Еще у молодца былъ милъ-надеженъ-другъ,
Назвался молодцу названой братъ;
Прельстилъ его рѣчьми прелестными,
Зазвалъ его на кабацкій дворъ,
Завелъ его въ избу кабацкую,
Поднесъ ему чарку зелена-вина,
И кружку поднесъ пива пьянаго,
Самъ говоритъ таково слово:
"Испей ты, братецъ мой названый,
"Въ радость себѣ и въ веселіе, и во здравіе.
"Испей чару зелена вина,
"Запей ты чашею меду сладкова;
"Хошь и упьешься, братецъ, до-пьяна,
"Ино гдѣ пилъ, тутъ и спать ложися,
"Надѣйся, надѣйся на меня, брата названова,
"Я сяду стеречь и досматривать:
"Въ головахъ у тебя, мила-друга,
"Я поставлю кружку и_ш_е_м_у 6) сладкаго,
"Вскрай поставлю зелено-вино,
"Близь тебя поставлю пиво-пьяное,
"Сберегу я, милъ-другъ, тебя накрѣпко,
«Сведу тебя къ отцу твоему и матери.»
Втѣпоры молодецъ понадѣялся
На своего брата названаго;
Не хотѣлось ему друга ослушаться;
Принимался онъ за питья за пьяныя,
И испивалъ чару зелена-вина,
Запивалъ онъ чашею меду сладкаго,
И пилъ онъ, молодецъ, пиво пьяное.
Упился онъ безъ памяти,
И гдѣ пилъ, тутъ и спать ложился:
Понадѣялся онъ на брата названаго.
Какъ будетъ день до вечера, а солнце на западѣ,
Отъ сна молодецъ пробуждается,
Втѣпоры молодецъ озирается:
А что сняты съ него драгіе порты,
Чары 7) и чулочки — все поснимано,
И вся собина 8) у него ограблена,
А кирпичекъ положенъ подъ буйну его голову,
Онъ накинутъ гункою 9) кабацкою,
Въ ногахъ у него лежатъ лапотки-отопочки,
Въ головахъ мила-друга и близко нѣтъ.
И вставалъ молодецъ на бѣлыя ноги,
Учалъ молодець наряжатися:
Обувалъ онъ лапотки (отопочки),
Надѣвалъ онъ гунку кабацкую,
Покрывалъ онъ свое тѣло бѣлое,
Умывалъ онъ лицо свое бѣлое;
Стоя, молодецъ закручинился,
Самъ говоритъ таково слово:
"Житіе мнѣ Богъ далъ великое:
"Ясти — кушати стало нечево!
"Какъ не стало деньги, ни полуденьги,
"Такъ не стало ни друга, ни полдруга;
"Родъ и племя отчитаются,
«Всѣ друзи прочь отпираются!»
Стало срамно молодцу появитися
Къ своему отцу и матери,
И къ своему роду и племени,
И къ своимъ прежнимъ милымъ другамъ.
Пошелъ онъ на чюжу страну, дальну — незнаему,
Нашелъ дворъ, что градъ стоитъ,
Изба на дворѣ что высокъ теремъ,
А въ избѣ идетъ великъ пиръ почестенъ:
Гости пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются.
Пришелъ молодецъ на честенъ пиръ,
Крестилъ онъ лицо свое бѣлое,
Поклонился чуднымъ образамъ,
Билъ челомъ онъ добрымъ людямъ
На всѣ четыре стороны.
А что видятъ молодца люди добрые,
Что гораздъ онъ креститися,
Ведетъ онъ все по писанному ученію,
Емлютъ его люди добрые подъ руки,
Посадили его за дубовый столъ,
Не въ большее мѣсто, не въ меньшее, —
Садятъ его на мѣсто среднее,
Гдѣ сидятъ дѣти гостиные.
Какъ будетъ пиръ на веселіе,
И всѣ на пиру гости пьяны-веселы,
И сѣдя всѣ похваляются, —
Молодецъ на пиру не веселъ сидитъ,
Кручиноватъ, скорбенъ, не радостень,
А не пьетъ, ни ѣстъ онъ, ни тѣшится,
И ничѣмъ на пиру не хвалится.
Говорятъ молодцу люди добрые:
"Что еси ты, добрый молодецъ,
"Зачѣмъ ты на пиру не веселъ сидишь,
"Кручиноватъ, скорбенъ, не радостенъ,
"Ни пьешь ты, (ни ѣшь ты), ни тѣшишься,
"Да ничѣмъ ты на пиру не хвалишься?
"Чара-ли зелена-вина до тебя не дохаживала?
"Или мѣсто тебѣ не по отчинѣ твоей?
"Или малыя дѣти тебя изобидѣли?
"Или глупые люди немудрые
"Чѣмъ тебѣ, молодцу, насмѣялися?
«Или дѣти наши къ тебѣ не ласковы?»
Говоритъ имъ, сидя, добрый молодецъ:
"Государи вы, люди добрые!
"Скажу я вамъ про свою нужду великую,
"Про свое ослушаніе родительское,
«И про питье кабацкое»
"Про чашу медвяную,
"Про лестное питье пьяное.
"Язъ, какъ принялся за питье за пьяное, —
"Ослушался язъ отца своего и матери:
"Благословеніе мнѣ отъ нихъ миновалося;
"Господь Богъ на меня разгнѣвался;
"Укротила скудность мой рѣчистый языкъ;
"Изсушила печаль мое лицо и бѣлое тѣло:
"Ради того мое сердце не весело,
"А бѣлое лицо унынливо,
"И ясныя очи замутилися…
"Отечество 10) мое потерялося,
"Храбрость молодецкая отъ меня миновалася!
"Государи вы, люди добрые!
"Окажите и научите, какъ мнѣ жить
"На чужой сторонѣ, въ чужихъ людяхъ,
«И какъ залѣсти мнѣ милыхъ друговъ?»
Говорятъ молодцу люди добрые:
"Добро еси ты, и разумный молодецъ!
"Не буди ты спѣсивъ на чужой сторонѣ:
"Покорися ты другу и недругу,
"Поклонися ты стару и молоду,
"А чужихъ ты дѣлъ не объявливай,
"А что слышишь или видишь — не сказывай!
"Не льсти ты межъ други и недруги;
"Ни вейся зміею лукавою;
"Смиреніе ко всѣмъ имѣй,
"И ты съ кротостію держися истины съ правдою.
"То тебѣ будетъ честь и хвала великая;
"Первое тебя люди свѣдаютъ
"И учнутъ тя чтить и жаловать
"3а твою правду великую,
"За твое смиреніе и за вѣжество;
"Будутъ у тебя милые други, «Названые братья надежные.»
И оттуда пошелъ молодецъ на чужу сторонку,
И учалъ онъ жити умѣючи;
Отъ великаго разума наживалъ онъ живота больше старова,
Присмотрѣлъ невѣсту себѣ по обычаю. —
Захотѣлося молодцу женитися.
Срядилъ молодецъ честный пиръ
Отчествомъ и вѣжествомъ,
Любовнымъ Своимъ гостемъ и другомъ билъ челомъ.
И по грѣхамъ молодцу,
И по Божію попущенію,
А по дѣйству дьяволю,
Предъ любовными своими гостьми и други
И названными браты похвалился
(А всегда гнило слово похвальное:
Похвальба живетъ человѣку пагуба):
«Наживалъ-де я, молодецъ, живота больше старова!»
Подслушало Горе-Злосчастье хвастанье молодецкое!
Само говоритъ такое слово:
"Не хвались ты, молодецъ, своимъ счастіемъ,
"Не хвастай своимъ богатствомъ;
"Бывали люди у меня, Горя,
"И мудряе тебя, и досужае,
"И я ихъ, Горе, перемудрило.
Учинися имъ злосчастіе великое:
"До смерти со мною боролися;
"Во зломъ злосчастіи позорилися;
"Не могли у меня, Горя, уѣхати,
"Отъ мене на-крѣпко они землею накрылись,
"Босоты и наготы они избыля,
"И я отъ нихъ, Горе, миновалось,
"А Злосчастіе на ихъ могилѣ осталось!
"Еще возграяло 11) я, Горе, къ инымъ привязалось,
"А мнѣ, Горю и Злосчастію, не впустѣ же жить:
"Хочу я, Горе, въ людехъ жить;
"И батогомъ меня не выгонить;
«А гнѣздо мое и вотчина во бражникахъ!»
Говоритъ сѣро-Горе-горинское:
«Какъ бы мнѣ молодцу появитися!»
Ино зло-то Горе излукавилось,
Во снѣ молодцу привидѣлось:
"Откажи ты, молодецъ, невѣстѣ своей любимой;
"Быть тебѣ отъ невѣсты истравлену,
"Еще быть тебѣ отъ тое жены удавіену,
"Изъ злата и серебра быть убитому!
"Ты пойди, молодецъ, на царевъ кабакъ;
"Не жали 12) ты, пропивай свои животы,
"А скинь ты платье гостиное 13),
"Надежи 14) ты на себя гунку кабацкую:
"Кабакомъ то Горе избудется,
"Да то злое Злосчастье останется,
"За нагимъ-то Горе не погонится,
"Да никто къ нагому не привяжется,
«А нагому-босому шумитъ разбой» 15).
Тому сну молодець не повѣровалъ.
Ино зло то Горе излукавилось:
Горе архангеломъ Гавріиломъ молодцу (явилося)
По прежнему еще, вь ново, Злосчастіе привязалося:
"Али тебѣ, молодецъ, невѣдома
"Нагота и босота безмѣрная,
"Легота, безпроторица 16) великая,
"На себя что купить, то проторится.
"А ты, удалъ-молодецъ, и такъ живешь!
"Да не бьютъ, не мучатъ нагихъ-босыхъ,
"И изъ раю нагихъ-босыхъ не выгонятъ,
«А съ того свѣта сюды не вытенутъ» 17),
"Да никто къ нему не привяжется,
«А нагому-босому шумитъ разбой!»
Тому сну молодецъ онъ повѣровалъ;
Сошелъ онъ пропивать свои животы
И скинулъ онъ плалье гостиное, —
Надѣвалъ онъ гунку кабацкую,
Накрывалъ онъ свое тѣло бѣлое;
Стало молодцу срамно появитися своимъ милымъ другамъ.
Пошелъ молодецъ на чужустрану дальну незнаему;
На дорогѣ пришла ему быстра рѣка;
За рѣкою перевозчики,
А просятъ у него перевознаго,
Ино дать молодцу нечего;
Не везутъ молодца безденежно.
Сидитъ молодецъ день до вечера,
Миновался день до вечера,
Не ѣдалъ молодецъ ни полукуса хлѣба;
Вставалъ молодецъ на скоры ноги,
Стоя, молодецъ закручинился,
А самъ говоритъ таково слово:
Ахти мнѣ, Злосчастіе-Горинское!
"До бѣды меня, молодца, домыкало,
"Уморило меня, молодца, смертью голодною;
"Уже три дня мнѣ были не радошны, —
"Не ѣдалъ я, молодецъ, ни полукуска хлѣба!
"Ино кинусь я, молодецъ, въ быстру рѣку:
"Полощи мое тѣло, быстра рѣка!
"Ино ѣшьте, рыбы, мое тѣло бѣлое!
"Ино лучше мнѣ житья сего позорнаго!
«Уйду-ли я у Горя-Злосчастнаго!»
И въ тотъ часъ у быстры рѣки
Скочи Горе изъ-за камени,
Босо-наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки,
Еще лычкомъ Горе подпоясано,
Богатырскимъ голосомъ воскликало:
"Стой ты, молодецъ: меня, Горя, не уйдешь никуды!
"Не мечися въ быстру рѣку,
"Да не буди въ горѣ кручиноватъ;
"А въ горѣ жить — некручинну быть!
"А кручинну въ горѣ погинути!
"Спамянуй, молодецъ, житіе свое первое;
"И самъ тебѣ отецъ говаривалъ, —
"И какъ тебѣ мати наказывала.
"Для чего тогда ты ихъ не послушалъ.
"Не захотѣлъ ты имъ покоритися,
"Постыдился имъ поклонитися,
"А хотѣлъ ты жить, какъ тебѣ любо есть!
"А кто родителей своихъ на добро ученія не слушаетъ,
«Того выучу я, Горе-Злосчастное!»
Говоритъ Злосчастіе таково слово:
"Покорися мнѣ, Горю, нечистому,
"Поклонися мнѣ, Горю, до сыры земли,
"А нѣтъ меня, Горя, мудряя на семъ свѣтѣ;
"И ты будешь перевезенъ за быструю рѣку,
«Напоятъ тя, накормятъ люди добрые».
А что видитъ молодецъ (бѣду) неминучую —
Покорился Горю нечистому,
Поклонился Горю до сыры земли!
Пошелъ, поскочилъ добрый молодецъ,
По круту по красну по бережку,
По желтому песочку;
Идетъ весело, некручиноватъ,
утѣшилъ онъ Горе-Злосчастіе,
А самъ, идучи, думу думаеть:
"Когда у мене нѣтъ ничего,
«И тужить мнѣ не о чемъ!»
Да еще молодецъ не кручиноватъ,
Запѣлъ онъ хорошую напѣвочку,
Отъ великаго крупнаго разума:
"Безпечальна мать меня породила,
"Гребешкомъ кудерцы расчесывала,
"Драгими порты меня одѣяла,
"И, отшедъ, подъ ручку 18) посмотрѣла:
"Хорошо-ли мое чадо во драгихъ портахъ.
"А въ драгихъ портахъ чаду и цѣны нѣтъ!
"Какъ бы до вѣку она такъ пророчила!
"Ино я самъ знаю и вѣдаю,
"Что не класти скарлату безъ мастера,
"Не утѣшити дитяти безъ матери,
"Не бывать бражнику богату,
"Не бывать костарю въ славѣ доброй.
"Завѣченъ 19) я у своихъ родителей,
"Что мнѣ быти бѣднешеньку,
«А что родился головенькою!» 20)
Услышали перевозчики молодецкую напѣвочку, —
Перевезли молодца за быстру рѣку,
А не взяли у него перевознаго.
Напоили, накормили люди добрые;
Сняли съ него гунку кабацкую,
Дали ему порты крестьянскіе.
Говорятъ молодцу люди добрые:
"А что еси ты, добрый молодецъ.
"Ты поди на свою сторону,
"Къ любимымъ честнымъ своимъ родителямъ,
"Ко отцу своему и къ матери любимой,
"Простися ты съ своими родители,
"Со отцомъ и матерію,
«Возьми отъ нихъ благословеніе родительское!»
И оттуда пошелъ молодецъ на свою сторону.
Какъ будетъ молодецъ на чистомъ полѣ,
А что злое Горе напередъ зашло,
На чистомъ полѣ молодца встрѣтило,
Учало надъ молодцемъ граяти,
Что злая ворона надъ соколомъ;
Говоритъ Горе таково слово:
"Ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!
"Не на часъ я къ тебѣ, Горе-Злосчастное, привязалося,
"Хоть до смерти съ тобой помучуся!
"Не одно я, Горе, — еще сродники,
"А вся родня наша добрая;
"Всѣ мы гладки, умильные;
"А кто въ семью къ намъ примѣшается, —
"Ино тотъ между нами замучится!
"Такова у насъ участь и лучшя.
"Хотя кинься въ птицы воздушныя;
"Хотя въ синее море ты пойдешь рыбою, —
«А я съ тобою пойду подъ руку подъ правую.»
Полетѣлъ молодецъ яснымъ соколомъ,
А Горе за нимъ бѣлымъ кречетомъ.
Молодецъ полетѣлъ сизымъ голубемъ,
А Горе за нимъ сѣрымъ ястребомъ;
Молодецъ пошелъ въ поле сѣрымъ волкомъ,
А Горе за нимъ съ борзыми выжлецы 21);
Молодецъ сталъ въ полѣ ковыль трава,
А Горе пришелъ съ косою вострою,
Да еще Злосчастье надъ молодцомъ насмѣялося:
"Быть тебѣ, травонька, посѣченой,
"Лежать тебѣ, травонька, посѣченой,
«И буйны вѣтры быть тебѣ развѣянной.»
Пошелъ молодецъ въ море рыбою,
А Горе за нимъ съ частыми неводами;
Еще Горе-Злосчастье насмѣялося:
"Быть тебѣ, рыбонька, у бережка уловленной,
«Быть тебѣ да и съѣденной,
„Умереть будетъ напрасною смертію!“
Молодецъ пошелъ путь-дорогою,
А Горе подъ руку подъ правую;
Научаетъ молодца богато жить,
Убити и ограбити,
Чтобы молодца за то повѣсили,
Или съ камнемъ въ воду посадили.
Спамятуетъ молодецъ спасенный путь,
И оттоль молодецъ въ монастырь пошелъ постригатися;
А Горе у святыхъ воротъ оставается,
Къ молодцу впредь не привяжется.
А сему житью конецъ мы вѣдаемъ:
Избавь Господи вѣчныя муки,
А дай намъ, Господи, свѣтлый рай!
Во вѣки вѣковъ! аминь.
1) Вѣроятно слѣдуетъ н_а_с_т_а_в_л_и_в_а_т_ь.
2) Одеждъ.
3) Поношенія.
4) Игрокамъ въ кости.
5) Нашелъ.
6) Ишемъ — названіе вина.
7) Черевики, т. е. башмаки.
8) Имущество.
9) Отрепья; собственно кусокъ грубаго холста. У малороссійскихъ казаковъ гуней называлась конская попона. Богатыри нашихъ былинъ надѣваютъ иногда гуню.
10) Въ смыслѣ: достоинства; то есть: я потерялъ право быть величаемымъ по отечеству, какъ честный и добропорядочный человѣкъ.
11) Т. е. закаркало ворономъ.
12) Вмѣсто: н_е ж_а_л_ѣ_й.
13)Купленное у г_о_с_т_е_й (купцовъ), т. е. хорошаго сорта.
14) Н_а_д_ѣ_н_ь.
15) Въ томъ же значеніи, какъ пословица: „голому разбой не страшенъ“. Ш_у_м_и_т_ъ разбой; если голый и слышитъ его, то не боится и не имѣетъ надобности бѣжать отъ него.
16) Л_е_г_о_т_а, въ насмѣшливомъ смыслѣ, какъ вмѣсто: о_б_о_к_р_а_л_и, о_г_р_а_б_и_л_и, говорятъ: о_б_л_е_г_ч_и_л_и. Б_е_з_п_р_о_т_о_р_и_ц_а--отсутствіе всякихъ проторовъ, всякихъ торныхъ путей; также въ насмѣшливомъ смыслѣ.
17) Т_е_п_а_т_ь. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ говорятъ: т_е_п_а_т_ь к_о_н_о_п_л_ю, а въ переносномъ смыслѣ — б_и_т_ь.
18) Т. е. держа ладонь надъ глазами.
19) Опредѣленъ на весь вѣкъ. Иначе: ч_т_о м_н-ѣ на р_о_д_у н_а_п_и_с_а_н_о.
20) Г_о_л_о_в_е_н_ь_к_о_ю значитъ: бѣднякомъ, горемыкою.
21) В_ы_ж_л_е_ц_ы-- гончія собаки. Отсюда и слово: в_ы_ж_л_я_т_н_и_к_ъ, вм. п_с_а_р_ь.

Житіе Юліаніи Лазаревской.
правитьБылъ во дни благовѣрнаго царя великаго князя Ивана Васильевича отъ его царскаго двора нѣкоторый мужъ благовѣренъ и нищелюбивъ, именемъ Іустинъ, по прозванію Недюревъ, саномъ ключникъ. И имѣлъ онъ жену боголюбиву и нищелюбиву, именемъ Стефаниду, Григорьева дочь, Лукина, отъ предѣловъ города Мурома. И жили они во всякомъ благовѣріи и чистотѣ; и было у нихъ много сыновей и дочерей, много богатства и рабовъ множество. Отъ нихъ же родилась и блаженная Юліана. И когда ей было шесть лѣтъ отъ роду, мать ея по-мерла; и взяла къ себѣ въ предѣлы города Мурома бабка ея, матери ея мать, вдова, именемъ Анастасія, Григорьева жена Лукина, Никифорова дочь Дубенскаго; и воспитывала ее шесть лѣтъ во всякомъ благовѣріи и чистотѣ. А когда исполнилось блаженной двѣнадцать лѣтъ, бабка ея преставилась отъ житія сего. И заповѣдала она дочери своей Натальѣ, Путиловѣ женѣ Арапова, взять внуку свою Юліанію въ себѣ въ домъ и восиитать ее во всякомъ благо-честіи; потому что тетка ея имѣла своихъ дочерей дѣвицъ и одного сына. Блаженная же отъ младыхъ лѣтъ возлюбила Бога и Пречистую Его Матерь, премного почитала тетку свою и сестеръ, и во всемъ была имъ послушна, любила смиреніе и молчаніе, молитвѣ и посту прилежала. И за то тетка ее много бранила, а сестры надъ ней смѣялись, потому что въ такой молодости томила она свое тѣло; и говорили ей ежедневно: „О безумная! Зачѣмъ въ такой молодости плоть свою изнуряешь и красоту дѣвственную губишь!“ И часто понуждали ее съ ранняго утра ѣсть и пить, но она не вдавалась ихъ волѣ, хотя съ благодарностію все принимала; чаще же съ молчаніемъ отъ нихъ отходила; потому что она была послушлива ко всякому человѣку и съ дѣтскаго возраста кротка и молчалива, невеличава. Отъ смѣха и всякой игры удалялась, хотя много разъ отъ сверстницъ своихъ на игры и пѣсни пустошныя была принуждаема, однако не приставала къ ихъ сборищу, и такимъ образомъ таила свои добродѣтели. Только о пряжѣ и пяличномъ дѣлѣ прилежаніе великое имѣла, и во всю ночь не угасалъ свѣтильникъ ея. А сиротъ и вдовъ, и немощныхъ въ веси той всѣхъ обшивала, и всѣхъ нуждающихся и больныхъ не оставляла безъ призрѣнія: и всѣ дивились ея разуму и благовѣрію. И все-лился въ нее страхъ Божій.
Когда достигла блаженная шестнадцатаго года, была отдана замужъ въ предѣлы города Мурома, мужу доброродну и богату, именемъ Георгій, по прозванью Осорьину. И вѣнчаны были у священника, именемъ Потапія, служившаго въ церкви праведнаго друга Божія, Лазаря, въ селѣ мужа ея. Этотъ іерей, добродѣтели ея ради, послѣ поставленъ былъ въ богоспасаемомъ градѣ Муромѣ, въ обители боголѣпнаго Преображенія Спасова архимандритомъ, и нареченъ въ инокахъ Пименъ. Этотъ священникъ научилъ ихъ страху Божію, и благословивъ ихъ, отпустилъ въ домъ ихъ, къ свекру ея, Василью, потому что отецъ и мать были еще живы.
И былъ ея свекоръ богатъ и добродѣтеленъ и царю знаемъ, а свекровь ея, именемъ Евдокія, была тоже доброродна и смысленна. Имѣли они одного только сына и двухъ дочерей и села, и много рабовъ и всякаго имѣнія въ изобиліи. Видя сноху свою возрастомъ и всякою добротою исполнену, и разумну, радовались о ней, и хвалу Богу воздавали. И поручили ей править все домовное хозяйство.
Имѣла же блаженная издѣтства обычай всякій вечеръ довольно молиться Богу и колѣнотвореніе творить, по сто поклоновъ до земли, и больше, и потомъ на сонъ преклонялась. Тоже и возставая отъ сна своего довольно Богу молилась. И мужа своего наставила тоже творить.
Когда же мужъ ея пребывалъ въ царскихъ службахъ, лѣто или два, а иногда и три лѣта, въ то время она всѣ ночи безъ сна проводила, много Богу молилась; и не угасалъ свѣчникъ ея всю ночь. Прилежно локти свои на веретено утверждала и на пяличное дѣло. И продавая работу свою, деньги раздавала нищимъ. Была она хитра пяличному дѣлу. Многую милостыню тайно отъ свекра и свекрови творила. только вѣдала это одна малая рабыня, съ которою посылала милостыню нуждающимся, И все это дѣлала по ночамъ, чтобы никто не узналъ.
А днемъ домовное хозяйство безъ лѣности правила. О вдовахъ и сиротахъ, какъ настоящая мать, заботилась; своими руками кормила и поила, омывала и обшивала. Всѣ въ дому ея были одѣты и насыщены, и каждому дѣло, по силѣ его, да-вала; а гордости и величанья не любила. Простымъ именемъ никого не называла и не требовала, чтобъ ей кто на руки воды подалъ, или отъ ногъ ея сапоги отрѣшилъ, но все сама собою творила. Развѣ по нуждѣ, когда гости приходили, тогда ей рабыни по чину предстояли и служили. Когда же уходили гости, и то она себѣ въ тяжесть вмѣняла, и всегда со смиреньемъ укоряя душу свою говорила: „кто же я сама убогая, что предстоятъ мнѣ такіе же человѣки, созданье Божіе?“
Впрочемъ иные рабы ея были неразумны и непокорливы и лѣнивы на дѣло, иные на словахъ перечливы. Но она все со смиреніемъ терпѣла и все собою исправляла, и на себя вину возлагала, говоря: „Сама я передъ Богомъ всегда согрѣшаю, а Богъ мнѣ терпитъ, что же мнѣ на этихъ взыскивать? Такіе же люди, какъ и я. Хоть и въ рабство намъ ихъ Богъ поручилъ: но души ихъ больше нашихъ душъ цвѣтутъ“. Потому что она помнила слово Спасителя, глаголящаго: „не обидите малыхъ сихъ, ангели бо ихъ всегда видятъ лицо Отца моего Небеснаго!“ И ни кого отъ провинившихся рабовъ она не оклеветала: и за то много разъ отъ свекра и отъ свекрови и отъ мужа своего бывала бранима.
Но она ни отъ чего не смущалась, а какъ столбъ непоколебимъ, непреклонно стояла, и всю надежду свою возлагала на Пречистую Богородицу, и великаго чудотворца Николая усердно призывала, принимая отъ него великую помощь, какъ сама она о себѣ повѣдала.
Однажды ночью возстала она по обычаю на молитву, а мужа ея не было дома. Ненавидящій же добра дьяволъ, съ бѣсами своими, покушаясь отъ такого дѣда отторгнуть ее, своими мечтами великій ужасъ навелъ на нее. Она же была тогда еще молода и неопытна, сильно испугалась, легла опять на свою постель и окуталась одѣяломъ. И крѣпко заснула; и увидѣла во снѣ множество бѣсовъ, пришедшихъ къ ней со всякимъ оружіемъ, чтобъ убить ее; и стали ее давить, говоря: „если не перестанешь отъ такого начинанія, то убьемъ тебя тот-часъ-же“. Она же, во многомъ страхѣ, возвела очи свои къ Боту и Пречистой Богородицѣ, и призвала на помощь святаго отца Николая. И немедленно явился передъ ней святой Николай, держа въ рукахъ великую книгу; и началъ ею бить бѣсовъ, и разогналъ ихъ всѣхъ и, какъ дымъ, исчезли они безъ вѣсти. Тогда воздвигъ онъ десницу свою, и благословилъ блаженную, и сказалъ: „О дочь моя! мужайся и крѣпись и не ужасайся бѣсовскаго прещенія! потому что самъ Христосъ повелѣлъ мнѣ хранить тебя отъ бѣсовъ и злыхъ людей“. Она же, пробудившись, на яву увидѣла мужа святолѣпна, какъ онъ, будто молнія, скоро вышедъ дверьми изъ храмины той. Тотчасъ встала, пошла за нимъ, но никого не видала, и притворъ храмины той крѣпко былъ запертъ по обычаю.
Вскорѣ послѣ гнѣвъ Божій постигъ русскую землю, наказуя насъ за грѣхи наши. Наступилъ великій голодъ, отъ котораго много людей помирало. Она же многую милостыню творила тайно отъ всѣхъ. Брала у свекрови себѣ пищу, будто бы на утреннее и полуденное яденье, и отдавала нищимъ. А сама она и съ дѣтства только дважды въ день вкушала пищу, а до обѣда и послѣ обѣда до ужина никогда не ѣла. Видѣвши то, свекръ говорилъ ей: „радуюсь я, невѣстушка, что ты чаще стала ѣсть; но дивлюсь, какъ измѣнилась ты нравомъ! Когда хлѣба было въ изобиліи, не могли мы тебя принуждать къ раннему и полуденному яденью. Теперь же въ мірѣ оскуденіе пищи, а ты берешь себѣ и завтракъ, и полудникъ“. Она, желая утаиться, отвѣчала: „когда еще не родила дѣтей, не хотѣлось мнѣ ѣсть; а какъ начала родить, обезсилѣла и не могу досыта наѣсться, и не только днемъ, но и ночью много разъ хочется мнѣ ѣсть, и мнѣ стыдно просить у тебя пищи“. Слыша это, очень рада была свекровь, и посылала ей пищи довольно, и на день, и на ночь. Потому что у нихъ въ дому нимало не было оскуденія; въ прежніе годы скоплено было много жита. Она же, принимая пищу отъ свекрови, сама не ѣла, но все раздавала нуждающимся.
Когда же кто изъ нищихъ умиралъ, нанимала обмыть его, и покупала умиральныя ризы, и на погребеніе посылала деньги, и когда видѣла въ селѣ своемъ мертвеца погребаемаго, знакомаго или незнакомаго, всегда довольно молилась о душѣ его.
Вскорѣ послѣ голода, былъ на людей сильный моръ. Многіе помирали болѣзнію, прозванною пострѣломъ. И многіе разумные, изъ боязни, въ домахъ своихъ запирались, и явственныхъ пострѣловъ къ себѣ не пущали и къ одеждѣ ихъ не прикасались. Блаженная же, тайно отъ свекра и свекрови, зараженныхъ многихъ, своими руками въ банѣ обмывая, исцѣляла и Бога молила объ исцѣленіи.
Живя такимъ образомъ много лѣтъ у свекра и свекрови, ни въ чемъ она ихъ не преслушалась, ни роптала, но какъ родная дочь своихъ родителей почитала. И представились въ глубокой старости ея свекоръ и свекровь, въ монашескомъ чинѣ. Она же пѣснями и псалмами надгробными и благолѣпнымъ погребеніемъ почтила ихъ; и многую милостыню по нихъ монастырямъ и церквамъ раздавала, повелѣвъ по нимъ служить литургію. И трапезы въ дому своемъ поставляла, потомъ и монахамъ, и нищимъ, вдовамъ и сиротамъ. И всѣхъ приходящихъ довольно пищей угощала и всѣхъ просила, чтобы молились Богу за души преставльшихся. И темничникамъ милостыню посылала ежедневно, даже до сороковаго дня. А мужа ея тогда не было дома. Она же много имѣнія на милостыню расточила, и не только въ то время, но и послѣ всегда творила память по умершихъ. Потому что помнила божественное писаніе, яко творимая здѣ многу пользу и ослабу творятъ умершимъ душамъ. й все имѣніе свекра своего и свекрови по нихъ въ память раздала.
Сама же на добродѣтель обратилась больше прежняго. И такъ поживши съ мужемъ своимъ довольно лѣтъ въ добродѣтели и чистотѣ, по закону Божію, родила десять сыновей и три дочери. Изъ нихъ четверо сыновей и двѣ дочери въ младенчествѣ померли; а шестерыхъ сыновей и дочь она съ супругомъ своимъ воспитала, прославляя Бога; объ умершихъ дѣтяхъ она не скорбѣла, а о живыхъ веселилась.
Ненавидящій же добро дьяволъ всячески старался бѣду и искушеніе ей сотворить; и воздвигалъ пустыя брани между дѣтьми ея в рабами: но она все смысленно и разумно разсуждала и усмиряла. И не могъ врагъ сотворить ей зла. И навадилъ одного изъ рабовъ: и этотъ рабъ убилъ ея старшаго сына. Видя сына своего умершаго, блаженная очень скорбѣла, но не о смерти его, а о душѣ его; однако не смутилась, и мужа своего утѣшительными словами утѣшала. Вскорѣ послѣ того — и другаго сына ея на царской службѣ убили. Хотя она и скорбѣла, но душевно, а не тѣлесно. Не кричала, не терзала на себѣ волосъ, какъ дѣлаютъ другія женщины, но днемъ поминала дѣтей своихъ милостыней и кормлей нищихъ, а ночи безъ сна проводила, моля Бога со слезами объ отпущеніи грѣховъ своихъ умершихъ чадъ.
Тогда начала она молить своего мужа, чтобъ отпустилъ ее въ монастырь. Но тотъ никакъ не преклонился къ ея просьбѣ. Она же говорила: если не отпустишь, то бѣгомъ изъ дому утаюсь.
Но мужъ заклиналъ ее не оставлять его: самъ онъ состарѣлся; а дѣти малыя. И читалъ онъ ей книги Блаженнаго Космы Пресвитера и многія другія божественныя писанія читалъ онъ передъ нею.
Она же, послушавъ, оставила свое намѣреніе, сказавъ: воля Господня да будетъ. Сама-же, какъ птичка изъ сѣтей вырвалась, отверглась отъ всего мірскаго и къ единому Богу всей душой обратилась. Постъ и воздержаніе паче мѣры воспріяла. По пятницамъ вовсе не вкушала, и затворялась одна въ отходной клѣти, и тамъ въ молитвахъ упражнялась; по понедѣльникамъ и средамъ однажды въ день сухояденіе безъ варива вкушала. А по субботамъ и воскресеньямъ въ дому своемъ трапезу поставляла попамъ, и вдовамъ, и сиротамъ, и домочадцамъ: тогда и сама вы-пивала одну чарку вина, не потому, чтобы любила вино, но не хотѣла оскорблять гостей. Она же только съ вечера, часъ одинъ, или два, принимала. И ложилась на печи безъ постели; только дрова острою стороной къ тѣлу подстилала; дрова же и подъ головы клала, а подъ ребра желѣзные ключи; и такъ тѣло свое удручала. Не желала она покою, но ложилась пока не засыпали ея рабы, а потомъ вставала на молитву и всю ночь безъ сна пребывала, и со слезами Богу молилась до заутренняго благовѣста. Потомъ шла къ заутрени и къ литургіи, и въ теченіи же дня рукодѣлію прилежала, домъ свой богоугодно устрояла; рабовъ своихъ пищей и одеждой довольствовала и дѣло каждому по силѣ задавала.
Преставился и мужъ ея черезъ десять лѣтъ по разлученію съ нимъ блаженной. Тогда она еще больше отверглась отъ всего мірскаго. И говорила она своимъ дѣтямъ: „Не много скорбите, дѣти мои! Смерть отца вашего намъ грѣшнымъ на смыслъ и поученіе. Видя то, и на себѣ того-же всякъ чаять долженъ. Стяжите-же всякую добродѣтель; а пуще всего милостыню по силѣ творите и между собою любовь нелицемѣрную держите“. И много поучала дѣтей своихъ отъ божественнаго писанія.
Поревновала она царицѣ Ѳеодорѣ и прочимъ святымъ женамъ, которыя послѣ смерти о мужьяхъ своихъ Бога умолили. И съ этого времени, постъ къ посту приложила, и молитву къ молитвѣ, и къ слезамъ слезы; и милостыню паче мѣры оказала. Случалось, что ни одной сребряницы въ домѣ ея не оставалось; и она занимала и обычную милостыню нуждающимся подавала и ежедневно ходила въ церковь на молитву. Когда наступала зима, брала у дѣтей своихъ на теплую одежду, но и то все нищимъ раздавала, а сама безъ теплой одежды оставалась. Сапоги на босы ноги надѣвала, а подъ подошвы, вмѣсто стелекъ, орѣховыя скорлупы и вострые черепки подкладывала и такъ тѣло свое удручала. Знакомые говорили ей: „что въ такой старости тѣло свое томишь“. Она же отвѣчала имъ: „развѣ не знаете, что тѣло душу убиваетъ? Убью-же сама тѣло мое и порабощу его, да спасется духъ мой“. А другимъ говорила: „недостойны страданія нынѣшняго вѣка противъ будущей славы“. И еще говорила: „сколько усохнетъ тѣла моего, того ужъ не будутъ ѣсть черви въ ономъ вѣкѣ“.
И такъ пожила опа во вдовствѣ десять лѣтъ, многую добродѣтель во всемъ показывая; и дожила до Борисова царства Годунова. И былъ въ то время сильный голодъ по всей русской землѣ, такъ что многіе ѣли всякое скверное мясо и человѣчью плоть. И множество народа перемерло голодомъ. Тогда въ дому блаженной великое было оскудѣніе пищи, потому что не выросло всѣянное въ землю жито, а кони и рогатый скотъ поколѣли. Только молила она дѣтей своихъ и рабовъ, чтобы ничего чужаго не трогали, не воровали; а что осталось у ней скота, а также ризы, сосуды, все распродала на жито, и тѣмъ челядь свою кормила и милостыню довольную просящимъ подавала. И дошла она до послѣдней нищеты, такъ что въ дому ея ни единаго зерна жита не осталось; но и отъ этого не смутилась, возлагая упованіе на Бога.
Въ то время переселилась она въ село, называемое Вогнево, въ предѣлахъ Нижегородскихъ. И не было тамъ церкви ближе двухъ верстъ. Потому старостью и нищетою будучи одержима, не ходила въ церковь, но дома молилась; и о томъ не мало скорбѣла; однако утѣшалась, поминая св. Корнилія, яко не вреди его домовная молитва, и другихъ. Когда великая нищета умножилась въ дому ея, она собрала своихъ рабовъ и сказала имъ: „Голодъ обдержитъ насъ: видите сами. Если кто изъ васъ хочетъ, пусть идетъ на свободу и не изнуряется меня ради“. Благомыслящіе между ними обѣщались съ нею терпѣть, а другіе отошли. Съ благословеніемъ и молитвою отпустила она ихъ, не держала на нихъ гнѣва. И велѣла оставшимся рабамъ собирать траву, рекомую лебеда, и кору древесную, рекомую илемъ, и въ томъ велѣла готовить хлѣбы, и тѣмъ сама питалась и дѣтей и рабовъ кормила. И молитвою ея былъ тотъ хлѣбъ сладокъ, и никто въ дому ея не изнемогалъ отъ голоду. Отъ того-же хлѣба и нищихъ питала, и не накормивъ, никого изъ дому не отпускала, а нищихъ въ то время было безчисленное множество. Сосѣди говорили нищимъ: „Что къ Юліаніи въ домъ ходите? она и сама голодомъ умираетъ“. Нищіе отвѣтствовали: „Много селъ мы проходимъ, и чистые хлѣбы собираемъ, а такъ въ сладость не наѣдаемся, какъ сладокъ хлѣбъ этой вдовы“. И сосѣди для испытанія посылали къ ней за хлѣбомъ, ѣли его, и дивились, говоря: „Горазды рабы ея печь хлѣбы“, а того не разумѣли, что молитвою ея хлѣбъ былъ сладокъ. Могла бы она умолить Бога, чтобы не оскудѣвалъ домъ ея; но не противилась смотрѣнію Божію, терпя благодарно, и вѣдая, что терпѣніемъ обрѣтается царствіе (Божіе) небесное. И терпѣла въ той нищетѣ два года; не опечалилась, не смутилась, не роптала и не изнемогла нищетей, но была еще веселѣе прежняго.
Когда приближилось честное ея преставленіе, разболѣлась она мѣсяца декабря въ 26 день, и была больна шесть дней. Но что была за болѣзнь ея? Днемъ на постели лежала, а молитву творила непрестанно; ночью же сама вставала и молилась Богу, никѣмъ не поддержима. А рабыни ея посмѣивались, говоря: „Не въ правду хвораетъ: днемъ лежитъ, а ночью встаетъ и молится“. Она-же, уразумѣвъ, говорила имъ: „Что вы меня посмѣхаете? развѣ не знаете, что и у больнаго истязуетъ Богъ молитвы духовныя?“ И иное многое говорила отъ святыхъ книгъ. Января во второи день на разсвѣтѣ, призвала отца своего духовнаго Афанасія и пріобщилась животворящихъ тайнъ Тѣла и Крови Христа Бога нашего. Сѣла на одрѣ своемъ, и призвала дѣтей своихъ и рабовъ и всѣхъ живущихъ въ селѣ томъ. И поучала ихъ о любви, и о молитвѣ, и о милостыни, и о прочихъ добродѣтеляхъ, присовокупивъ: „Желаніемъ возжелала я великаго ангельскаго образа еще отъ юности моей, но не сподобилась, но грѣхамъ моимъ. Такъ угодно было Богу. Слава праведному суду Его“. И велѣла уготовить кадило и фиміамъ вложить въ него, и цаловала всѣхъ бывшихъ при ней, и всѣмъ миръ и прощеніе подавала. Потомъ легла; трижды перекрестилась; обвила четки около своей руки и сказала послѣднее слово: „Слава Богу, всѣхъ ради, въ руцѣ Твои предаю духъ мой. Аминь“. И предала душу свою въ руки Господа, котораго измлада возлюбила. И видѣли всѣ въ тотъ часъ на головѣ ея золотой вѣнецъ и бѣлый убрусъ. Омыли и положили ее въ клѣти. И въ ту ночь видѣли тамъ горящія свѣчи, а весь домъ наполнился благоуханіями. И въ ту же ночь явилась она одной рабынѣ, и по-велѣла, чтобъ отвезли ее въ предѣлы муромскіе, и положили у церкви св. Лазаря, друга Божія, подлѣ мужа ея. И положили святое и многотрудное тѣло ея въ дубовый гробъ, и отвезли въ предѣлы муромскіе; и похоронили мы ее у церкви св. Лазаря, въ селѣ Лазаревскомъ, гдѣ много-трудно подвизалась она.
Въ лѣто 1605, января въ 10 день. Такъ пожила блаженная Юліанія! Таковы ея подвиги и труды. Мы же о житіи ея никому не повѣдали до тѣхъ поръ, пока не преставился сынъ ея Георгій. Тогда, копая ему могилу, обрѣли мы тѣло ея, кипящее миромъ благовоннымъ. И отъ того понудился я написать житіе блаженной, убоявшись, чтобы смерть не предварила меня, и чтобы не предано быдо житіе блаженной забвенію. А написалъ я въ кратцѣ, малое отъ многаго, чтобы не дать большаго труда и переписывающимъ и читающимъ.
Вы же, братіе и отцы, не зазрите мнѣ, что написалъ, будучи грубъ и нечистъ. И не думайте, что это все ложно, ради родства материнскаго. Видитъ всевидящее, Владыко Христосъ, Богъ нашъ, что не лгу.


XX.
правитьНародная поэзія въ XVII вѣкѣ: — былины, историческія пѣсни, духовные стихи. — Вліяніе, оказанное расколомъ на поэзію народную.
правитьИзложивъ исторію древняго періода нашей литературы, мы не можемъ перейти къ слѣдующему, многознаменательному періоду реформъ Петра Великаго, не указавъ на важнѣйшія явленія въ области исторіи нашей народной литературы, несомнѣнно стоящія въ тѣсной связи съ нашею историческою жизнью въ XVII вѣкѣ. Мы уже видѣли, что отъ самыхъ временъ татарщины, пѣсня народная почти непрерывно сопровождаетъ своимъ ровнымъ эпическимъ теченіемъ однообразное теченіе нашей исторической жизни, группируя циклы пѣсенъ около важнѣйшихъ лицъ и событій историческихъ. Чѣмъ полнѣе, шире и ярче складывается жизнь историческая, тѣмъ полнѣе и подробнѣе начинаетъ передавать и отражать ее наша историческая пѣсня, все болѣе и болѣе удаляясь отъ прежнихъ своихъ героевъ-богатырей полу-историческаго, полу-миѳическаго характера — и все болѣе сосредоточивая вниманіе на исторической дѣйствительности. Личность Грознаго царя Ивана Васильевича, на сколько она отражается въ нашей поэзіи, является на грани, отдѣляющей древнѣйшій періодъ развитія нашихъ историческихъ народныхъ пѣсенъ отъ новѣйшаго, очевидно наступающаго въ XVII вѣкѣ. Личность Грознаго въ пѣсняхъ стоитъ уже отдѣльно, сама по себѣ, внѣ всякой зависимости отъ прежнихъ былинныхъ цикловъ — новгородскаго и кіевскаго, хотя и въ тѣсной связи съ непосредственно предшествующею ей эпохою татарщины. Однако же, нѣкоторые изъ окружающихъ Грознаго личностей историческихъ (напр. Ермакъ Тимоѳѣевичъ) еще ставятся въ извѣстное соотношеніе и къ Владиміру Красному-Солнышку, и къ его богатырямъ. Напротивъ того, въ пѣсняхъ XVII вѣка, этотъ отдаленный и темный періодъ, всѣ соединенные съ нимъ богатыри и подвиги — все это отдаляется на задній планъ: на сцену выступаютъ историческія личности въ довольно вѣрной исторической обстановкѣ. Мы встрѣчаемъ въ пѣсняхъ XVII вѣка и Ксенію Борисовну Годунову, и Димитрія Самозванца, и молодаго воеводу Скопина-Шуйскаго, и царя Алексѣя Михайловича, и удалаго разбойничьяго атамана Стеньку Разина, который своею громадною личностью какъ бы вытѣсняетъ изъ народной памяти всѣ грандіозные образы прежнихъ богатырей. Первѣйшій изъ этихъ богатырей и любимѣйшій дотолѣ герой народныхъ пѣсенъ — старый казакъ Илья-Муромецъ — даже подчиняется народною фантазіей могучему волжскому атаману и является въ его шайкѣ есауломъ 1).
1) Нельзя не обратить вниманія на тотъ интересный фактъ, что въ числѣ пѣсенъ, сохранившихся намъ отъ XVII столѣтія, шесть пѣсенъ, а именно: — „Въѣздъ Филарета въ Москву“, „Смерть Скопина Шуйскаго“, двѣ пѣсни о „Ксеніи Борисовнѣ“, „Весновая служба“ и „Набѣгъ Крымскихъ Татаръ“ — были записаны оксфордскимъ баккалавромъ Ричардомъ Джемсомъ, который, въ качествѣ священника, состоялъ при англійскомъ посольствѣ въ Россіи, въ 1619 и 1620 годахъ.
Въ этихъ пѣсняхъ сохранилась не только простая память о событіяхъ и лицахъ историческихъ XVII вѣка, — о нечестіи и гибели Гришки Разстриги, о несчастной участи Борисовой дочери, объ отравленіи юнаго боярина Скопина-Шуйскаго — въ нихъ выразился и самостоятельный взглядъ народа на современность и ея представителей. Гибель Самозванца объясняетъ народъ въ пѣсни своей тѣмъ, что онъ былъ н_е_п_р_я_м_о_й (т. е. незаконный) царь и не уважалъ русской вѣры и обычаевъ; отравленіе Скопина-Шуйскаго народъ еще болѣе вѣрно объясняетъ завистью бояръ и опасеніями, которыя должны были возбудить въ средѣ ихъ подвиги молодаго воеводы. Гораздо болѣе страннымъ и поразительнымъ должно казаться на первый взглядъ то положительное сочувствіе, съ которымъ народъ относится къ подвигамъ „понизовой вольницы“ — къ р_а_з_б_о_й_н_и_ч_е_с_т_в_у, которое сдѣлалось въ XVII вѣкѣ, подъ вліяніемъ особыхъ, неблагопріятныхъ историческихъ условій народнаго быта, одною изъ наиболѣе распространенныхъ общественныхъ язвъ. Отголоскомъ этого сочувствія къ разбойничеству явился цѣлый кругъ пѣсенъ объ удалыхъ подвигахъ низовой вольницы и въ особенности о главномъ представителѣ всей этой вольницы — Стенькѣ Разинѣ, въ которомъ олицетворяется идеалъ народнаго героя по современнымъ понятіямъ. Подобная идеализація однако же не должна намъ казаться удивительною, если припомнимъ тѣ въ высшей степени тягостныя условія народнаго быта, среди которыхъ приходилось въ XVII вѣкѣ жить простолюдину. Множество налоговъ, монополіи, стѣснявшія промышленность и торговлю, частыя войны и смуты — все это порождало въ средѣ народа бѣдность и недовольство, а тягостныя отношенія къ помѣщикамъ, подкупность и свое-корыстіе мѣстныхъ властей и судовъ и жестокія преслѣдованія религіозныя часто доводили это недовольство до открытыхъ возмущеній противъ законной власти и до того, что цѣлыя селенія разбѣгались врозь. Одни уходили въ лѣса и дебри недоступные, другіе выселялись за литовскій и польскій рубежъ; третьи шли пополнять собою ряды на привольѣ гулявшей и грабившей при-волжской вольницы, величая себя „удалыми добрыми молодцами“ и не признавая надъ собою ничьей власти, относясь съ величайшею ненавистью ко всякому законному порядку, съ величайшимъ презрѣніемъ ко всякимъ правамъ и преимуществамъ, въ особенности къ правамъ собственности. Промысломъ вольницы являлся грабежъ, цѣлью жизни — удалое, привольное и разгульное житье, главнымъ знаменемъ — личная свобода и общность имущества, добычи, на которую каждый изъ членовъ вольницы имѣлъ одинаковое право. Понятно, что эта безобразная жизнь, какъ противоположность тѣмъ крайнимъ тягостямъ, которые приходилось сносить народу, должна была имѣть въ глазахъ его нѣкоторую привлекательность, оказывать на воображеніе неразвитой массы обаятельное впечатлѣніе. Вотъ почему и „удалые добрые молодцы“, и самъ атаманъ ихъ, С_т_е_п_а_н_ъ Т_и_м_о_ѳ_ѣ_е_в_и_ч_ъ, представляются въ народныхъ пѣсняхъ героями, беззавѣтная удаль ихъ и разгулье рисуются въ самомъ яркомъ и привлекательномъ свѣтѣ, а грабежамъ и убійствамъ придается значеніе подвиговъ, въ основаніи которыхъ полагается желаніе мстить за несправедливости и притѣсненія, претерпѣваемыя народомъ со стороны богатства и власти. Извѣстно, что и самый бунтъ Стеньки Разина потому именно пріобрѣлъ значеніе важнаго народнаго движенія, къ подавленію котораго Московское государство употребило весьма значительныя усилія: — масса видѣла въ Стенькѣ человѣка, стремившагося освободить ее отъ власти помѣщиковъ и* тѣмъ самымъ улучшить ея матерьяльный бытъ. Благодаря такому значенію личности Стеньки Разина въ глазахъ современной ему массы народной, народъ сохранилъ въ памяти своей множество пѣсенъ о немъ, съ величайшею подробностью изображающихъ намъ его характеръ и подвиги. Любопытною и новою чертою личности народнаго богатыря, въ пѣсняхъ о Стенькѣ, является то, что онъ не только изображенъ одареннымъ необычайною силою физическою, мужествомъ и смѣлостью, но еще и другимъ болѣе надежнымъ, болѣе страшнымъ свойствомъ: — онъ в_ѣ_д_у_н_ъ, чародѣй, и эта вѣщая сила его проявляется чрезвычайно разнообразно. Чародѣйствомъ останавливаетъ онъ купеческія суда на Волгѣ, чародѣйствомъ о_т_в_о_д_и_т_ъ о_н_ъ г_л_а_з_а царскимъ воеводамъ, ускользая отъ ихъ преслѣдованій; чародѣйство же защищаетъ его и отъ пушекъ и ружей, лучше всякой прадѣдовской брони: — ни одна пуля не беретъ его… Посаженный въ тюрьму, онъ рисуетъ на стѣнѣ углемъ лодку съ гребцами и, силою чаръ, обращаетъ ее въ настоящую лодку, на которой и спасается изъ заточенія. Есауломъ у Стеньки служитъ самъ „старый казакъ Илья-Муромецъ“ — любимый герой народныхъ былинъ. И ничего для Стеньки нѣтъ ни дорогаго, ни завѣтнаго: въ даръ матушкѣ Волгѣ, которая его питала и лелѣяла, онъ приноситъ плѣнную персидскую царевну, бросая ее съ корабля въ волны рѣки-кормилицы… Не жалѣя красокъ на яркое и полное изображеніе крупной личности атамана, Степана Тимофѣевича, народъ не забываетъ привлекательно обрисовать и его товарищей, которые про себя и свое ремесло говорятъ неуклонно и смѣло, отдѣляя себя отъ остальныхъ, обыкновенныхъ смертныхъ, промышляющихъ разбоями, и какъ бы отрицая всякую связь съ ними по ремеслу:
„Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы всѣ помощнички.
Мы весломъ махнемъ — корабель возьмемъ,
Кистенемъ махнемъ — караванъ собьемъ,
Мы рукой махнемъ — дѣвицу возьмемъ“.
Въ самой внѣшности ихъ проявляется молодечество, отвага и довольство — неразлучные спутники ихъ привольнаго быта:
„На нихъ шапочки собольи, верхи бархатные,
На нихъ бѣленьки чулочки, сафьянны сапожки,
На нихъ штаники кумачны, во три строчки строчены,
На нихъ тонкія рубашки съ золотымъ галуномъ“.
Сочувствіе къ личности Стеньки выражаетъ народъ, по обычаю своему, тѣмъ общимъ поэтическимъ пріемомъ, на основаніи котораго и самая природа является соболѣзнующею бѣдствіямъ славнаго атамана и его товарищей. Любопытно, по отношенію къ пѣснямъ о Стенькѣ, еще и то обстоятельство, что ему самому приписываютъ одну изъ пѣсенъ, которая дышетъ величавымъ сознаніемъ личнаго достоинства и значенія, сознаніемъ славы, ожидающей его въ будущихъ поколѣніяхъ. Эта пѣсня, говорятъ, сложена была Стенькою въ темницѣ, не задолго до смерти. Въ ней онъ, прощаясь съ товарищами своими, проситъ ихъ похоронить его тѣло на перекресткѣ, между трехъ дорогъ: „межъ московской, астраханской, славной кіевской“. Затѣмъ онъ наказываетъ имъ:
„Въ головахъ моихъ поставьте животворный крестъ,
Въ ногахъ мнѣ положите саблю вострую,
Кто пройдетъ или проѣдетъ — остановится,
Моему-ли животворному кресту помолится, ,
Моей сабли вострой испужается:
Что лежитъ тутъ воръ-удалый-добрый-молодецъ,
Стенька Разинъ, Тимофѣевичъ по прозванію“.
Если историческая дѣйствительность XVII вѣка нашла себѣ отголосокъ въ былинахъ и пѣсняхъ о смутномъ времени, о парѣ Алексеѣ Михайловичѣ и о Стенькѣ Разинѣ, то, конечно, та же дѣйствительность другою, духовно-нравственною стороною своей должна была отразиться въ тѣхъ произведеніяхъ народной фантазіи, которыя уже издавна извѣстны у насъ на Руси подъ названіемъ „духовныхъ стиховъ“ и съ которыми мы уже успѣли нѣсколько ознакомить читателей въ XIV главѣ. Семнадцатый вѣкъ, вѣкъ усиленной религіозной борьбы, вѣкъ сомнѣній и споровъ, открытой, энергичной проповѣди расколоучителей и жестокихъ преслѣдованій за религіозныя убѣжденія — долженъ былъ, конечно, занести и въ область духовныхъ стиховъ нѣкоторые новые, дотолѣ чуждые ей мотивы. Въ числѣ духовныхъ стиховъ появилось очень много такихъ, въ которыхъ смутный и тягостный періодъ XVII вѣка сказался самыми мрачными красками, самыми мрачными образами: — страшный судъ и гибель грѣшниковъ, мученія, ожидающія нераскаянныхъ въ преисподней — вотъ что чаще всего рисуется» воображенію народа въ духовныхъ стихахъ этой эпохи. Въ нихъ выражается постоянно полнѣйшее презрѣніе ко всему земному, безнадежность и безсиліе человѣка, падающаго подъ тяжкимъ бременемъ судьбы, погибающаго и страждущаго въ этой жизни, не ожидающаго ни спасенія, ни облегченія своей участи — въ будущей. Надо всѣмъ преобладаетъ мертвящее и отнимающее всякую бодрость сознаніе, ничтожества и безполезности всѣхъ усилій человѣческихъ, суетности всѣхъ благъ и житейской прелести передъ неумолимою смертью. Плодомъ такихъ мрачныхъ, преобладавшихъ въ народѣ воззрѣній на жизнь и смерть и на загробное существованіе души явилось множество стиховъ «о страшномъ судѣ», «о разставаніи души съ тѣломъ», «о мукахъ грѣшниковъ», наконецъ цѣлый рядъ произведеній, въ которыхъ описывается «борьба человѣка со смертью». Подобные стихи обыкновенно излагаютъ этотъ сюжетъ въ видѣ спора между ж_и_з_н_ь_ю и с_м_е_р_т_ь_ю, или еще чаще — въ видѣ разговора между сильнымъ и могучимъ витяземъ «Аникою-воиномъ», котораго «Смерть» посѣкаетъ среди подвиговъ его, не внимая никакимъ мольбамъ его и просьбамъ. И такъ, въ массѣ народа, мы встрѣчаемся, слѣдовательно, съ тѣми же самыми образами — съ тѣмъ же сознаніемъ безсилія человѣческой личности передъ могуществомъ судьбы — съ какимъ мы уже встрѣчались въ свѣтской литературѣ ХѴII вѣка, въ прошлой главѣ. И эта одинаковость воззрѣній въ массѣ и въ отдѣльныхъ, болѣе массы развитыхъ и образованныхъ личностяхъ, свидѣтельствуетъ достаточно ясно о томъ, какъ мало представлялось въ ту пору возможности для развитія отдѣльной личности, для обособленія ея во взглядахъ и убѣжденіяхъ и въ способѣ воззрѣній отъ сплошной и неразвитой массы.
Въ нѣкоторыхъ стихахъ XVII вѣка уже высказываются и раскольничьи мнѣнія; по всѣмъ вѣроятіямъ, та масса р_а_с_к_о_л_ь_н_и_ч_ь_и_х_ъ стиховъ, какая теперь извѣстна ученому міру, получила свое начало именно въ XVII столѣтіи. По крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ стиховъ, несомнѣнно принадлежащихъ XVII вѣку, отличаются именно тою суровою обрядовою нетерпимостью, которая тогда преимуществено проявлялась въ лицѣ главнѣйшихъ расколоучителей и ихъ ближайшихъ послѣдователей. Многіе изъ стиховъ, описывающихъ муки грѣшниковъ въ аду, указываютъ на несоблюденіе самыхъ мелкихъ обрядовъ, какъ на достаточный поводъ для неминуемаго вверженія во адъ. Раскольникамъ же, вѣроятно, принадлежитъ и то множество духовныхъ стиховъ, въ которыхъ воспѣваются преимущества «пустыни», подъ названіемъ «похвала пустыни», «разговоръ съ пустыней» и т. д. Нѣкоторые изъ нихъ замѣчательны по своимъ поэтическимъ красотамъ и дѣйствительно передаютъ намъ очень живо то впечатлѣніе, которое дѣвственные лѣса, съ ихъ непроходимою чащею и глушью, должны были производить на людей, спасавшихся и отъ «прелестей (т. е. соблазновъ) міра», и отъ жестокихъ гоненій.
Всякій періодъ общественной борьбы, столкновенія двухъ различныхъ направленій въ убѣжденіяхъ и взглядахъ двухъ поколѣній, обыкновенно, имѣетъ необходимымъ слѣдствіемъ своимъ — сатиру, въ которой обѣ партіи стараются взаимно осмѣять другъ друга, набросить ироническій, насмѣшливый оттѣнокъ на обоюдный способъ дѣйствій. Любопытнымъ памятникомъ такого рода со-временной сатиры, порожденной враждебными отношеніями раскольниковъ къ просвѣщенной и энергической дѣятельности Никона, какъ исправителя священныхъ и богослужебныхъ книгъ, остается для насъ замѣчательная былина «объ осадѣ Соловецкаго монастыря», сложенная очевидно раскольниками. Въ ней всѣ факты этой открытой борьбы раскольниковъ противъ власти излагаются съ чисто раскольничьей точки зрѣнія, и притомъ съ оттѣнкомъ очень злой ироніи; вотъ какъ, напримѣръ, изображенъ въ ней царь Алексѣй Михайловичъ, отправляющій своихъ воеводъ для осады Соловецкаго монастыря:
Какъ возговоритъ православный царь,
Алексѣй-то Михайловичъ,
Его царское величество:
«Охъ ты гой еси, большой бояринъ,
Ты любимый мой воеводушка!
Ты ступай-ка ко морю ко синему,
Ко тому монастырю, ко честному,
Къ Соловецкому;
Ты нарушь в_ѣ_р_у с_т_а_р_у_ю, п_р_а_в_у_ю,
Постановь в_ѣ_р_у н_о_в_у_ю, н_е_п_р_а_в_у_ю».
«Любимый царскій воеводушка» отвѣчаетъ на это съ удивленіемъ, что:
«Нельзя объ этомъ и подумати,
Нельзя объ этомъ и помыслити…»
Однако же царь р_а_с_п_а_л_я_е_т_с_я на воеводу, и тотъ видитъ себя вынужденнымъ исполнить его повелѣніе. «Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ», а при нихъ «сорокъ пушекъ, да все мѣдныхъ» — являются подъ стѣнами обители. Неразумный звонарь бѣжитъ къ старцамъ объявить, что подступаетъ подъ стѣны войско православное:
«Не то они идутъ ратитися,
Не то идутъ они молитися…»
«Охъ, ты, глупый звонарь, неразумный пономарь!» отвѣчаютъ ему, «вѣдь это войско православное: — не идетъ оно ратитися, а идетъ оно молитися!» На ту пору пушкари были догадливы: стали пускать ядра «во честной монастырь Соловецкій».

Въ заключеніе этой главы не можемъ не упомянуть здѣсь о томъ, что «духовные стихи», распѣваемые нищею братіею, уже и въ XVII вѣкѣ находили себѣ цѣнителей и почитателей между высшимъ сословіемъ нашимъ: бояре, какъ видно, любили эту поэзію. Такъ, по свидѣтельству Кодлинса, одинъ изъ нихъ, отвѣчая на вопросъ: «понравилась-ли ему голландская музыка?» — будто бы сказалъ: «очень хороша! Точно также поютъ наши нищіе, когда просятъ милостыни». По другимъ извѣстіямъ, и царь Ѳеодоръ Іоанновичъ тоже не брезговалъ пѣснями, и очень часто проводилъ вечера, слушая пѣніе; а о Ксеніи Борисовнѣ Годуновой даже весьма опредѣленно говорится, что она любила «г_л_а_с_ы в_о_с_п_ѣ_в_а_е_м_ы_е» и «п_ѣ_с_н_и д_у_х_о_в_н_ы_я» 1).
1) Буслаевъ. Очерки: 1, 50.
ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ГЛАВѢ ДВАДЦАТОЙ,
правитьМихайло Скопинъ 1).
правитьКакъ и будетъ почтарь въ половецкой ордѣ,
У честна короля, честного Карлуса,
Онъ въѣзжаетъ прямо на королевскій дворъ;
Середи двора королевскаго,
Соскочилъ почтарь съ добра коня,
Вязалъ коня къ дубову столбу,
Сумы подхватилъ, самъ во палаты идетъ;
Ни зачѣмъ почтарь ни замѣшкался,
Приходитъ во палату бѣлокаменну,
Расковыривалъ сумы, вынималъ ярлыки,
И кладетъ королю онъ на круглый столъ.
Принимавши, король распечатываетъ,
Распечаталъ, самъ просматриваетъ,
И печальное слово повыговорилъ:
«Отъ любимаго брата названаго,
Скопина-князя-Михайлы Васильевича;
Какъ проситъ силы на подмочь,
Закладываетъ три города русскіе».
А честной король, честной Карлусъ,
Показалъ ему милость великую,
Отправляетъ силы со трехъ земель:
А и первыя силы-то свицкія,
А другія силы саксонскія,
А третіи силы ш_к_о_л_ь_с_к_і_я (?)
Того ратнаго люду, ученаго,
А ни много, ни мало — сорокъ тысячей.
Прибыла сила въ Новгородъ,
Изъ Новагорода во каменну Москву, —
У ясна сокола крылья отросли,
У Скопина-князя думушки прибыло.
А поутру, рано ранешенько
Въ соборѣ Скопинъ онъ заутреню отслужилъ,
Отслужилъ, самъ въ походъ пошелъ,
Подымали знаменье царское,
А на знаменьи было написано
Чуденъ Спасъ со Пречистою,
На другой сторонѣ было написано
Михайло и Гаврило архангелы,
Еще вся тутъ сила небесная.
Въ восточную сторону походомъ пошли,
Они вырубили Чудь бѣлоглазую,
И ту Сорочину долгополую,
Въ полуденную сторону походомъ пошли,
Прикрошили черкесъ пятигорскіихъ:
А немного дралися, скоро сами сдались;
Еще нонѣ тутъ Малороссія.
А на сѣверну сторону походомъ пошли,
Прирубили калмыковъ съ башкирцами.
А на западну сторону и въ ночь пошли, —
Прирубили чукши со люторами;
А кому будетъ Божья помочь —
Скопину князю Михайлѣ Васильевичу!
Онъ очистилъ царство московское
И велико государство россійское.
На великихъ тѣхъ на радостяхъ
Служили обѣдни со молебнами,
И кругомъ города ходили въ каженной Москвѣ;
Отслуживши обѣдни съ молебнами,
И всю литургію великую,
На великихъ радостяхъ пиръ пошелъ,
А пиръ пошелъ и на великій столъ,
У Скопина князя Михайлы Васильевича,
Про весь православные міръ: —
И велику славу до вѣку поютъ
Скопину князю Михайлѣ Васильевичу.
Какъ бы малое время замѣшкавши
А во той же славной каненной Москвѣ,
У того ли было князя Воротынскаго,
Крестили младого князевича,
А Скопинъ-князь Михайло кумомъ былъ,
А кума была дочь Малютина,
Того Малюты Скурлатова.
У того-то князя Воротынскаго,
Тамъ будетъ и почестной столъ,
Тутъ было много князей и бояръ,
и званыхъ гостей:
Будетъ пиръ во полу-пирѣ,
Княженецкой столъ во полу-столѣ,
Какъ пьяненьки тутъ гости разхвастались;
Сильный хвастаетъ силою,
Богатый хвастаетъ богатствомъ;
Скопинъ-князъ Михайло Васильевичъ
А и не пилъ онъ зелено вино,
Только одно пилъ пиво и сладкій медъ,
Не съ большого хмѣлю онъ похвастается:
«А вы, глупой народъ, неразумные!
А всѣ вы похваляетесь бездѣлицей:
Я — Скопинъ, Михайло Васильевичъ,
Могу князь похвалитися,
Что очистилъ царство московское
И велико государство россійское,
Еще ли мнѣ славу поютъ до вѣку,
Отъ стараго до малаго,
Отъ малаго — до вѣку моего».
А и тутъ боярамъ за бѣду стало,
Въ тотъ часъ они дѣло сдѣлали;
Поддернули зелья лютаго,
Подсыпали въ стаканъ, въ меды сладкіе,
Подавали кумѣ его крестовыя,
Малютиной дочери Скурлатовой.
Она, знавши, кума его крестовая,
Подносила стаканъ меду сладкаго
Скопину-князю Михайлѣ Васильевичу.
Примаетъ Скопинъ, не отпирается,
Онъ выпилъ стаканъ меду сладкаго,
А самъ говорилъ таково слово:
«Услышалъ въ утробѣ неловко добрѣ! —
А и ты съѣла меня, кума крестовая,
Малютова дочь Скурлатова;
А зазнаючи мнѣ стаканъ съ зельемъ подала,
Съѣла ты меня, змѣя подколодная!»
Годова съ плечъ покатилася,
А и тутъ Скопинъ скоро со пиру пошелъ,
Онъ садился Скопинъ на добра коня,
Побѣжалъ къ родимой матушкѣ;
А только успѣлъ съ нею проститися,
А матушка ему пенять стала:
«Гой еси, мое чадо милое,
Скопинъ-князь Михайло Васильевичъ!
Я тебѣ приказывала,
Не велѣла ѣздити ко князю Воротынскому.
А и ты меня не послушался,
— Лишила тебя свѣту бѣлаго
Кума твоя крестовая,
Малютина дочь Скурлатова».
Онъ къ вечеру Скопинъ и преставился. —
То старина, то и дѣянье,
Какъ бы синему морю на утѣшенье,
А быстрымъ рѣкамъ слава до моря,
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманье,
Еще намъ, веселымъ молодцамъ 2), на потѣшенье,
Испиваючи медъ, зелено вино;
Гдѣ-ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
Тому боярину великому
И хозяину своему ласкову.
1) Пѣсня начинается съ того, что съ московскимъ царствомъ «учинилось недоброе»: «облегла его Литва съ четырехъ сторонъ», а съ нею и «Сорочина долгополая, и черкесы пятигорскіе, и калмыки съ татарами, и чукши съ люторами». Князь Михайло Скопинъ, «правитель царству московскому», «оберегатель міру крещеному», видитъ, что ему не справиться со всѣми этими иноплеменниками: — и вотъ отправляетъ онъ скораго гонца «въ свицкую землю, саксонскую», «къ любимому брату-названному, ко свицкому королю Карлосу», прося у него «силы воинское на подмочь».
2) Здѣсь пѣвцы, какъ видно поющіе во время стола, у какого-то боярина, говоря о себѣ, указываютъ на любопытный старинный обычай потѣшанія гостей пѣснями во время пировъ.
Пѣсни о Ксеніи Борисовнѣ Годуновой.
правитьСплачется малая птичка
Бѣлая перепелка:
«Охти мнѣ, молоды горевати!
Хотятъ сырой дубъ зажигати,
Мое гнѣздышко разорити,
Мои милыя дѣти добити,
Меня перепелку лоймати».
Сплачется на Москвѣ царевна:
«Охти мнѣ, молоды горевати,
Что идетъ къ Москвѣ измѣнникъ,
Ино Гришка Отрепьевъ Разстрига,
Что хочетъ меня полонити,
А полонивъ, меня хочетъ постритчи,
Чернеческой чинъ наложити.
Ино мнѣ постритчися не хочетъ,
Чернечскаго чину не сдержати
Отворити будетъ темна келья,
На добрыхъ молодцовъ посмотрѣти.
Ино, охъ, милые наши переходы,
А кому будетъ по васъ да ходити,
Послѣ царскаго нашего житья
И послѣ Бориса Годунова?
Ахъ, милые наши теремы,
А кому будетъ въ васъ да сѣдѣти,
Послѣ царскаго нашего житья
И послѣ Бориса Годунова?»
А сплачется на Москвѣ царевна,
Борисова дочь Годунова:
"Ино Боже, Спасъ милосердый;
За что наше царство загибло —
За батюшково-ли согрѣшенье,
За матушкино-ли немоленье?
А свѣты вы, наши высокія хоромы,
Кому вами будетъ владѣти,
Послѣ нашего царскаго житья?
А свѣты браные убрусы,
— Береза-ли вами крутити?
А свѣты золоты ширинки,
— Лѣсы-ли вами дарити?
А свѣты яхонты-сережки,
На сучье-ли васъ задѣвати,
Послѣ царскаго нашего житья,
Послѣ батюшкова наставленья,
А свѣтъ Бориса Годунова?
А что ѣдетъ къ Москвѣ Разстрига,
Да хочетъ теремы ломати,
Меня хочетъ, царевну, воймати,
А на Устюжну на желѣзную отослати,
Меня хочетъ царевну постритчи,
А въ рѣшетчатой садъ засадити.
Ино, охти мнѣ, горевати,
Какъ мнѣ въ темну келью вступати,
У игуменьи благословитися 1).
1) Эти двѣ пѣсни принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыя записаны были Джемсомъ.
Пѣсня о Стенькѣ Разинѣ.
правитьАхъ, туманы вы, туманушки,
Вы туманы непроглядные,
Какъ печаль тоска ненавистные,
Не подняться вамъ, туманушки, съ синя моря долой,
Не отстать тебѣ, кручинушка, отъ сердца прочь!
— Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, частъ-крупенъ дождикъ!
Ты размой земляну тюрьму,
Чтобъ тюремнички-братцы разбѣжалися,
Во темномъ бы лѣсу собиралися.
— Во дубравушкѣ во зелененькой,
Ночевали тутъ добры молодцы;
Подъ березонькой они становилися,
На восходъ Богу молилися,
Красну солнышку поклонилися:
— «Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Надъ горой взойди, надъ высокою,
Надъ дубравушкой, надъ зеленою,
Надъ урочищемъ добра молодца,
Что Степана свѣтъ-Тимофеича,
По прозванью Стеньки Разина…
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрѣй ты насъ, людей бѣдныхъ,
Добрыхъ молодцевъ, людей бѣглыхъ.
Мы не воры, не разбойнички, —
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы всѣ помощнички.
Мы весломъ махнемъ — корабель возьмемъ,
Кистенемъ махнемъ — караванъ собьемъ,
Мы рукой махнемъ — дѣвицу возьмемъ».
Какъ бывало мнѣ, ясну соколу, да времечко:
Я леталъ, младъ-ясенъ-соколъ, по поднебесью,
Я билъ-побивалъ гусей-лебедей,
Еще билъ-побивалъ малу пташечку.
Какъ бывало мелкой пташечкѣ пролету нѣтъ.
А нонича мнѣ, ясну-соколу, время нѣтъ:
Сижу я, младъ-ясенъ соколъ, въ поиманѣ,
Я во той-ли, во золотой во клѣточкѣ,
Во клѣточкѣ, во жестяной, на шесточкѣ.
У сокола ножки спутаны,
На ноженькахъ путочки шелковыя,
Занавѣсочки на глазынькахъ жемчужныя!
Какъ бывало мнѣ, добру-молодцу, да времечко:
Я ходилъ-гулялъ, добрый молодецъ, по синю-морю,
Ужъ билъ-разбивалъ суда-корабли,
Я татарскіе, персидскіе, армянскіе;
Еще билъ-разбивалъ легки лодочки:
Какъ бывало легкимъ лодочкамъ проходу нѣтъ;
А нонѣча мнѣ, добру молодцу, время нѣтъ!
Сижу я, добрый молодецъ, во поиманѣ,
Я во той-ли во злодѣйской земляной тюрьмѣ.
У добра-молодца ноженьки сокованы,
На ноженькахъ оковушки нѣмецкія,
На рученькахъ у молодца замки затюремные,
На шеюшкѣ у молодца рогатки желѣзныя.
Пѣсня про осаду Соловецкаго монастыря.
правитьНа Москвѣ было, на базарѣ,
Собиралися бояре:
Выбирали бояре
Изъ бояръ воеводу,
Выбирали Ивана Петрова,
Изъ того ли изъ роду Салтыкова,
Передъ царскія очи становили.
Какъ возговоритъ православный царь,
Алексѣй-то Михайловичъ,
Его царское величество:
«Охъ ты гой еси, большой бояринъ,
Ты, любимый мой воеводушка!
Ты ступай-ка къ морю, ко синему,
Ко тому острову, ко большому,
Ко тому монастырю, ко честному,
Къ Соловецкому;
Ты нарушь вѣру старую, правую,
Постановь вѣру новую, неправую».
Какъ возговоритъ большой бояринъ,
Любимый царскій воеводушка:
«Охъ ты гои еси, православный царь,
Алексѣй Михайловичъ,
Твое царское величество!
Нельзя объ этомъ и подумати,
Нельзя объ этомъ и помыслити:
Какъ нарушить вѣру старую, правую,
Какъ поставить вѣру новую, неправую!»
Царь разозлился,
Царь распалился;
Воевода погрѣшился.
Какъ возговоритъ большой бояринъ,
Любимый царскій воеводушка:
«Охъ ты гой еси, православный царь,
Алексѣй Михайловичъ!
Ужъ и дай мнѣ силу не малую, не великую!
Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ,
Сорокъ пушекъ, да все мѣдныихъ,
Зелья-пороху сколько надобно».
Какъ и было въ самый-ли Петровъ-то день,
Какъ на синемъ было морюшкѣ,
На большомъ было на островѣ,
Во честномъ монастырѣ было —
Отошла честна заутреня.
Пономарь звонилъ къ обѣденкѣ,
Честны старцы пѣли молитвы;
Какъ бѣжитъ пономарь,
Неразумный звонарь:
«Охъ вы гой еси, честны старцы!
Какъ идетъ сила не малая, не великая,
Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ,
Сорокъ пушекъ, да все мѣдныихъ,
Зелья-пороху сколько надобно,
Да все войско православное:
Не то идутъ они ратитися,
Не то идутъ они молитися!»
— «Охъ ты, глупый звонарь,
Неразумный пономарь,
Да то войско православное.
Не идетъ оно ратиться,
Идетъ оно молиться!»
На ту пору пушкари были догадливы:
Брали ядрышко каленое,
Забивали въ пушечку мѣдную,
Палили въ тотъ во честный монастырь,
Въ Соловецкій.
Стихъ Іосафа-царевича въ пустынѣ.
правитьВъ дальней во долинѣ
Стояла прекрасная пустыня.
Къ той же ко пустынѣ приходитъ
Молодой царевичъ Осафій:
«Прекрасная ты пустыня,
Любимая моя мати!
Прими меня, мать пустыня,
Отъ юности прелестныя,
Отъ своего вольнаго царства,
Отъ своей бѣлой каменной палаты,
Отъ своей казны золотыя!
Научи ты меня, мать пустыня,
Волю Божію творити!
Да избави меня, мати пустыня,
Отъ злыя муки отъ превѣчной!
Приведи ты меня, мать пустыня,
Въ небесное царство!»
Отвѣщуетъ прекрасная пустыня
Ко младому царевичу Осафью:
— «Ты, младый царевичъ Осафій!
Не жить тебѣ во пустынѣ:
Кому владѣть твоимъ царствомъ,
Твоей бѣлой каменной палатой,
Твоей. казной золотою?» —
Отвѣщуетъ младый царевичъ:
— «Прекрасная ты пустыня,
Любимая моя мати!
Не могу я на свое царство зрѣти,
Ни на свою каменну палату,
И на свою казну золотую.
А хочу я пребыть во пустыни:
Радъ я на тебя работати,
Земные поклоны исправляти
До своего смертнаго часу!»,
Отвѣщуетъ прекрасная пустыня:
— «Ты, младый царевичъ Осафій!
Не жить тебѣ во пустынѣ,
Не молясь во мнѣ, Богу молиться,
Не трудясь во мнѣ, Господу трудиться:
Нѣтъ во мнѣ царскаго ѣства,
И нѣтъ во мнѣ царскаго пойла,
Ѣсть воскушать — гнилая колода;
(Пить)-испивать — болотная водица».
Отвѣщуетъ младый царевичъ:
— «Прекрасная ты моя пустыня!
Любимая моя мати!
Не стращай ты меня, мать пустыня,
Своими великими страстями!
Могу я жить во пустынѣ,
Волю Божію творити;
Житье наше, мать, часовое;
А богатство наше, мать, временное;
Я радъ на тебя работати,
Земные поклоны исправляти
До своего смертнаго часу».
Отвѣщуетъ прекрасная пустыня:
— «Ты, младый царевичъ Осафій!
Не жить тебѣ во пустыни:
Придетъ мать весна-красна,
Лузья-болоты разольются,
Древа листами одѣнутся,
И запоютъ птицы райскія
Архангельскими голосами,
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!»
Отвѣщуетъ младой царевичъ:
— «Прекрасная мать пустыня, Любимая моя мати!
Хоша придетъ мать весна-красная,
И лузья-болоты разольются,
И древа листами одѣнутся,
И запоютъ птицы райски
Архангельскими голосами,
Не прельщусь я на благовонные цвѣты;
Отращу я свои власы
По могучія плечи,
И не буду взирать на вольное царство;
Изъ пустыни я вонъ не изыду,
И тебя, мать прекрасная, не покину».
Отвѣщуетъ прекрасная пустыня:
— «Свѣтъ младый, царевичъ Осафій,
Чадо ты мое милое!
Когда ты изъ пустыни вонъ не выдешь,
И меня, мать прекрасную, не покинешь:
Дарую я тебя золотымъ вѣнцомъ,
Возьму я тебя, младый царевичъ,
Во небеса царствовати,
Съ праведными лики ликовати!»
Похвала пустыни.
правитьО, прекрасная пустыня!
Пріими мя въ свою пустыню,
Яко мати свое чадо,
Научи мя на все благо;
Въ тихую свою, безмолвную,
Палату лѣсовольную,
Любимая моя мати,
Потщися мя воспріяти.
Всѣмъ сердцемъ желаю тя,
И въ день, и въ нощь возлелѣю тя.
Пустыня моя, пріими мя,
Отъ суетнаго, прелестнаго,
Вѣка маловременнаго,
Да во своя младыя лѣта
Отвращуся отъ сего свѣта.
О, прекрасная пустыня,
Въ любви своей пріими мя.
Не страши мя своимъ страхомъ,
Да не въ радость буду врагомъ.
Пойду я въ твои лузи зрѣти
Различные твоя цвѣти.
О, дивенъ твой прекрасный садъ,
И жити (я) въ тебѣ всегда радъ;
Древа, вѣтви кудрявыя
И листвіе зеленое
Зыблются малыми вѣтры,
Пребуду здѣ своя лѣта,
Оставлю міръ прелестный,
И буду, аки звѣрь дикій,
Единъ въ пустыни бѣгати,
День и нощь работати:
Сего бо свѣта прелести
Хотятъ душу въ адъ свести,
И вринути въ пропасти темныя,
Въ огненныя муки вѣчныя.
Всегда мя врагъ прельщаетъ,
Свои сѣти поставляетъ,
И тако начну плакати,
Умильно звати и рыдати:
«Милостивый мой Боже!
Уповая на тебя, азъ
Скитаюся въ сей пустыни».

ПЕРІОДЪ ПЯТЫЙ.
правитьЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНІЙ.
правитьXXI.
правитьНаука, образованіе и литература при Петрѣ. — Усиленная типографская дѣятельность. — И. Т. Посошковъ.
правитьВъ XVII столѣтіи видѣли мы русское общество въ томъ переходномъ состояніи, при которомъ Россіи все еще угрожали многіе годы сна и застоя. Среди этого переходнаго состоянія, переживаемаго обществомъ, правда, слышался поворотъ на новую дорогу, и даже дѣлались кое-какія попытки реформъ по вопросамъ частнымъ, по отношенію къ частнымъ условіямъ быта, обращавшимъ на себя преимущественное вниманіе нѣкоторыхъ лучшихъ и наиболѣе энергическихъ современныхъ дѣятелей. Но эти попытки реформъ по частямъ, эти часто даже и весьма почтенныя, и замѣчателъныя по энергіи, усилія отдѣльныхъ лицъ — не приводили къ желаемому результату. Сильна оставалась партія почитателей старины, смѣло противоставляла открытое сопротивленіе вводителямъ новшествъ, искренно желавшимъ блага Россіи, и прежде всего — сближенія Россіи съ Европою. Достаточно будетъ, въ подтвержденіе сказаннаго, припомнить здѣсь извѣстное завѣщаніе патріарха Іоакима, который, еще въ 1690 г., убѣждалъ Іоанна и Петра I изгнать изъ Россіи всѣхъ иностранцевъ, какъ враговъ Божіихъ… Но вотъ, во главѣ этой горсти западниковъ и нововводителей, является геніальный Петръ, царь-богатырь, и вступаетъ въ ту страшную, неумолимую борьбу съ отживающею стариною и застоемъ, которая извѣстна въ нашей исторіи подъ названіемъ «Эпохи преобразованій». Одинъ изъ современниковъ Петра 1), сравнивая въ рѣчи своей старую, допетровскую Россію съ новой Россіей, которая твердою стопою вступила въ началѣ XVIII вѣка въ семью государствъ европейскихъ, справедливо замѣчаетъ: «(Тѣ), которые насъ гнушалися, яко грубыхъ, ищутъ усердно братства нашего; которые безчестили — славятъ; которые грозили — боятся и трепещутъ; которые презирали — слѣдить намъ не стыдятся; многія по Европѣ коронованныя главы въ союзъ съ Петромъ-монархомъ нашимъ идутъ доброхотно: отмѣнили мнѣніе 2), отмѣнили прежнія свои о насъ повѣсти, затерли исторійки своя древнія, инако и глаголати, и писати начали… Вознесла главу Россія свѣтлая, красная, сильная, другомъ любимая, врагомъ страшная!» — «Августъ онъ 3), римскій императоръ, яко превеликую о себѣ похвалу, умирая, проглагола: „кирпичный“ — рѣче — „Римъ обрѣтохъ, а мраморный оставляю“. А нашему Пресвѣтлѣйшему Монарху тщета была бы, а не похвала сіе пригласити 4): исповѣсти 5) бо, воистину, подобаетъ: — д_р_е_в_я_н_у_ю о_н_ъ о_б_р_ѣ_т_ѣ Р_о_с_с_і_ю, а с_о_т_в_о_р_и з_л_а_т_у_ю! Тако оную внѣшнимъ и внутреннимъ видомъ украси, зданіи, крѣпости, правилми и правителми, и различныхъ ученій полезныхъ добротою».
1) Ѳ. Прокоповичъ.
2) Т. е. дурное мнѣніе.
3) Т. е. оный.
4) Провзогласить — произнести.
5) Исповѣдать — признать.
Какъ бы ни казались пристрастны и преувеличены эти отзывы о реформѣ, высказанныя современникомъ Петра, сподвижникомъ его, и притомъ горячо привязаннымъ къ нему, близкимъ человѣкомъ, однакоже никакому сомнѣнію не можетъ подлежать то обстоятельство, что такая громадная общественная реформа, какая совершена была Петромъ Великимъ, была возможна и выполнима только для Петра Великаго. Только при его всеобъемлющемъ геніи мыслимо было создать такой необъятно-громадный планъ преобразованій, касавшихся всего государственнаго и общественнаго строя, и только при его неутомимости, при его безграничномъ уваженіи къ труду, при его полнѣйшемъ пренебреженіи всѣхъ препятствій, налагаемыхъ на его пути исторіей и природой, оказывалась возможность послѣдовательно, полно привести планъ въ исполненіе, восходя отъ частностей къ общему, отъ перемѣнъ въ одеждѣ и борьбы съ предразсудками до колоссальной реформы въ устройствѣ русской церкви, до полнаго освобожденія литературы и науки отъ опеки духовенства и монашества. Представители и приверженцы древнихъ началъ общественной русской жизни и рьяные сторонники религіознаго фанатизма, отвергавшаго всякій прогрессъ, пытались не разъ вступать съ нимъ въ борьбу, и протестъ ихъ бывалъ на столько силенъ, на столько энергиченъ, что, конечно, могъ бы, если и не сломить, то по крайней мp3;рѣ поколебать волю даже и весьма рѣшительнаго преобразователя. Но съ Петромъ никакая борьба не оказывалась возможною: онъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ смертныхъ и во всемъ являлся непохожимъ на своихъ современниковъ, во всемъ изумлялъ ихъ. Неуклонно, съ безпощадностью и желѣзнымъ упорствомъ стихіи, Петръ шелъ своимъ путемъ, и видѣлъ передъ собою только тѣ цѣли, въ которыхъ, по его мнѣнію, заключалось благо Россіи: — все, что являлось препятствіемъ на его пути, должно было по-гибнуть и обратиться въ прахъ. Пришлось вскорѣ убѣдиться въ томъ, что ни любовь, ни дружба, ни родственныя, ни даже семейныя узы не въ силахъ сдержать этого богатыря въ его стремленіи къ цѣлямъ, предначертаннымъ ему свыше, — и вотъ, съ трепетомъ преклонилось передъ нимъ все враждебное его замысламъ или бѣжало укрыться отъ него въ непроходимую глушь лѣсовъ и дебрей. Въ безсильной злобѣ предавая анаѳемѣ дѣла Великаго преобразователя, враги переносили на него то наименованіе антихриста, которое еще такъ недавно служило выраженіемъ ненависти къ лицу другаго, менѣе грознаго, хотя и весьма замѣчательнаго преобразователя — патріарха Никона. Безсмертнымъ памятникомъ нравственнаго могущества Петра и его воззрѣній на свои обязанности по отношенію къ народу и государству осталось намъ его письмо къ царевичу Алексѣю Петровичу (отъ 11 окт. 1715 г.), которое можетъ служить самою лучшею характеристикою личности Великаго Преобразователя:

«Всѣмъ извстно есть, что предъ начінаніемъ сея воіны, какъ нашъ народъ утѣсненъ былъ отъ шведовъ, которые… (намъ) со всѣмъ свѣтомъ коммуникацію пресѣкли. Но потомъ, когда сіа воіна началась (которому дѣлу едінъ Богъ руководцемъ былъ и есть) о коль великое гоненіе отъ непріятелей ради нашего неискусства въ воінѣ претерпѣли, и съ какою горестью и терпѣніемъ сію школу прошли, дондеже… сподобилися видѣть, что онои непріятель, отъ котораго трепетали, едва не вящшеѣ отъ насъ трепещетъ. Что все, помогающу Вышнему, моіми бѣдными и протчіхъ истінныхъ сыновъ Россійскихъ трудами достіжено. Егда же сію Богомъ данную нашему Отечеству радость разсмотряя, обозрюсь на лінѣю наслѣдства, едва неровная радости горесть меня снѣдаетъ, відя тебя, наслѣдника, весьма на правленіе дѣлъ государственныхъ самовольно непотребнаго — ибо Богъ не есть віновенъ: ибо разума тебя не лишилъ, ниже крѣпость тѣлесную весьма отнялъ… Слабостію-ли здоровья отговариваешься?.. но и сіе не резонъ! Ибо не трудовъ, но охоты желаю, которую никакая болѣзнь отлучить не можетъ… Я есмь человѣкъ, и смерти подлежу; то кому вышепісанное съ помощію Вышняго насажденіе и уже нѣкоторое и возърощенное оставлю? Тому (ли), иже уподобілся лѣнивому рабу Евангельскому, вкопавшему талантъ свои въ землю… Ничего дѣлать не хочешь, только бъ дома жить, и имъ веселітца! Однакожъ… безумной, радуешься своею бѣдою, не вѣдая, что можетъ отъ того слѣдовать не точію тебѣ, но и всему государству! Что все я съ горестію размышляя, и видя, что нічѣмъ тебя склонить не могу къ добру, за благо изобрѣлъ сей послѣднеи тестаментъ 1) тебѣ напісать, и еще мало пождать, аще неліцемѣрно обратішся. Ежели же ни, то извѣстенъ будь, что я весьма тебя наслѣдства лішу, а не мни себѣ, что я сіе только въ устрастку пішу: воистинно, Богу изволившу, исполню. Ибо я, за мое отечество и люди, жівота своего не жалѣлъ, и не жалѣю, то како могу тебя непотребнаго пожалѣть; — лучше будь чужеи доброи, неже свои непотребнои».
1) Въ смыслѣ: з_а_в_ѣ_щ_а_н_і_е, или скорѣе: увѣщаніе.
Эти немногія, драгоцѣнныя для насъ строки служатъ намъ лучшимъ доказательствомъ того, что въ лицѣ Петра, впервые, во главѣ русскаго народа явился такой правитель для котораго только общая польза могла имѣть значеніе, который способенъ былъ уважать только личныя заслуги и любовь къ труду, который, ради блага народа и государства, способенъ былъ отъ всего отречься: отъ любви и дружбы, отъ родовыхъ преданій, отъ собственнаго своего сына. Только при такомъ взглядѣ на вещи, взглядѣ новомъ и который былъ притомъ радикально-противоположенъ всѣмъ убѣжденіямъ и воззрѣніямъ старой, до-петровской Руси, Петру удалось собрать около себя довольно обширный кружокъ дѣятелей, которые способны были приводить въ исполненіе его планы, осуществлять его намѣренія и глубоко проводить въ массу здравыя понятія объ истинномъ значеніи новаго порядка вещей. Многіе изъ этихъ дѣятелей были люди весьма незавидной нравственности, многіе изъ нихъ оказались годными для общественной дѣятельности только подъ желѣзною рукою Петра, многіе справедливо подверглись строгому суду исторіи за тѣ эгоистическія стремленія, которыя были выказаны ими послѣ смерти Петра — но все же, несомнѣнною заслугою этихъ «птенцовъ гнѣзда Петрова», какъ назвалъ ихъ Пушкинъ, является ихъ горячая привязанность къ идеямъ реформы и самая безграничная вѣра въ пользу предпринятаго Петромъ преобразованія. И если послѣ Петра, Россія, вступившая при немъ въ семью европейскихъ государствъ, несмотря на неспособность наслѣдовавшихъ Петру правителей, не смотря на замѣчательно-невыгодныя историческія условія, не смотря на усилія старой русской партіи, не могла уже болѣе повернуть на старый путь, то въ этомъ отношеніи Россія, конечно, была значительно обязана тѣмъ немногимъ дѣятелямъ, которыхъ избралъ и воспиталъ Петръ, и которые послѣ его смерти выказали въ борьбѣ за идеи Петровы много ловкости, ума, даже самоотверженія, и сохранили неприкосновенными преданія Петровскаго времени для послѣдующихъ поколѣній, для послѣдующей и болѣе свѣтлой эпохи царствованія Екатерины II.
Не мѣсто было бы здѣсь распространяться о значеніи эпохи преобразованій, о вліяніи ея на послѣдующій ходъ русской исторіи и русской жизни — все это давно уже сказано, давно разслѣдовано и изложено нашими историками; а потому мы и позволимъ себѣ указать только на тѣ стороны этой знаменательной эпохи, которыя нашли себѣ отголосокъ въ литературѣ первой половины XVIII вѣка и надолго положили печать свою на весь ходъ нашего просвѣщенія.
Отдавая должную дань безпристрастнаго удивленія геніальному Преобразователю Россіи и оцѣнивая по достоинству его дѣятельность, мы въ то же время, конечно, очень далеки отъ желанія оправдывать самый способъ его дѣйствій во многихъ случаяхъ, и тѣмъ болѣе — отъ желанія преувеличивать ту степень образованности и нравственнаго развитія, на которую онъ стремился возвести своихъ современниковъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи Петръ является намъ вполнѣ человѣкомъ своего времени: — на сколько онъ не знаетъ разбора въ средствахъ къ приведенію въ исполненіе своихъ завѣтныхъ замысловъ, на столь-ко же не можетъ видѣть и въ образованіи необходимую нравственную цѣль жизни. Образованіе представлялось Петру только однимъ изъ средствъ къ тому, чтобы сравняться въ матерьяльныхъ силахъ съ сосѣдями, и доставить современному русскому обществу возможность пользоваться матерьяльными удобствами жизни и нѣкоторымъ благосостояніемъ. Однимъ словомъ, цѣль образованія, вносимаго Петромъ въ Россію, была чисто-утилитарная; и онъ вноситъ его въ Россію именно на столько, на сколько оно ему представлялось необходимымъ для достиженія преслѣдуемыхъ имъ цѣлей. Вотъ почему Петръ не заботится о поддержкѣ и размноженіи общеобразовательныхъ заведеній, въ родѣ Московской славяно-греко-латинской академіи, и, въ то же время, основываетъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ спеціальныя школы; вотъ по-чему, не заботясь о поощреніи отечественной, самостоятельной литературы, онъ такъ прилежно способствуетъ развитію обширной литературы переводной. Какъ сильно заботы о книжномъ дѣлѣ занимали Петра, видно изъ того, что онѣ никогда не покидали его: даже во время походовъ, находясь въ Польшѣ, въ Ливоніи, въ Астрахани, онъ постоянно заботится о размноженіи книгъ и посылаетъ свои приказанія и наставленія переводчикамъ. Не разъ и въ часы увеселеній заводитъ онъ рѣчь о любимомъ предметѣ. Такъ въ 1718 г. управлявшій монастырскимъ приказомъ Мусинъ-Пушкинъ писалъ къ Поликарпову, что былъ спрошенъ Государемъ на с_в_а_д_ь_б_ѣ у князя П. Голицына, «отчего по сю пору не переведена книга Виргилія Урбина о началѣ всякихъ изобрѣтеній, — книга небольшая, а такъ мѣшкаете». Но и здѣсь высказывается его практическій геній, и здѣсь онъ заботится о перенесеніи на нашу литературную почву только существенно-необходимаго. Такъ напр. при одномъ изъ переводовъ нѣмецкаго сочиненія о хлѣбопашествѣ, выправленномъ самимъ Петромъ, сохранилось и слѣдующее характеристическое собственноручное примѣчаніе его: «понеже нѣмцы многими разсказами негодными книги свои наполняютъ только для того, чтобы велики казались, чего к_р_о_м_ѣ с_а_м_а_г_о д_ѣ_л_а и краткаго предъ всякою вещью разговора переводить не надлежитъ; но и выше реченный разговоръ, чтобъ не праздной ради красоты, а для вразумленія и наставленія о томъ чтущему было, чего ради о хлѣбопашествѣ трактатъ выправилъ (вычерня негодное), и для примѣра посылаю, дабы по сему книги переложены были безъ излишнихъ разсказовъ, которые времятолько тратятъ и чтущимъ охоту отъемлютъ». И вотъ, не жалѣя ни усилій, ни денегъ, Петръ развиваетъ у насъ довольно обширную переводную литературу, преимущественно направляя ее къ одной цѣли — къ доставленію возможности русскимъ людямъ у себя на дому пріобрѣтать полезныя спеціальныя свѣдѣнія. Посылаются съ этою цѣлью молодые люди за границу, посылаются книги для перевода и въ Москву, къ преподавателямъ славяно-греко-латинской академіи, и въ Новгородъ, къ братьямъ Лихудамъ, переселившимся туда изъ Москвы, и въ славянскія земли, гдѣ многія книги переводятся сначала на чешскій языкъ, а послѣ уже съ чешскаго — на русскій. Къ дѣятельности переводческой привлекаются и иностранцы, долго жившіе въ Россіи, какъ напр. Виніусъ, и справщики типографій (Поликарповъ), и лица, состоявшія на службѣ при посольскомъ приказѣ, и даже шведы, попавшіе въ плѣнъ, изъ числа которыхъ одинъ, извѣстный переводчикъ Шиллинъ, служилъ также въ посольскомъ приказѣ. Постоянно заботясь о переводѣ различныхъ трактатовъ по военнымъ наукамъ, географіи, исторіи, юриспруденціи, мореходству, политической экономіи, языкознанію и другимъ отраслямъ знаній, Петръ поручалъ переводы многихъ книгъ даже Сѵноду, постоянно прося о скорѣйшемъ приведеніи поручаемаго имъ въ исполненіе, нерѣдко прибѣгая даже и къ угрозамъ. При этомъ Петръ неослабно заботился о возможной чистотѣ и ясности русскаго языка въ переводныхъ книгахъ; онъ даже чувствуетъ необходимость замѣнять славянскій языкъ просторѣчіемъ. Это стремленіе не разъ проявляется въ тѣхъ наставленіяхъ, которыя отъ имени Государя давались переводчикамъ. Такъ напр. Мусинъ, возвращая Поликарпову переведенную имъ географію, писалъ ему, что она «п_е_р_е_в_е_д_е_н_а г_о_р_а_з_д_о п_л_о_х_о» и прибавлялъ: «того ради исправь хорошенько не высокими словами славянскими, но п_р_о_с_т_ы_м_ъ р_у_с_с_к_и_м_ъ я_з_ы_к_о_м_ъ. Высокихъ словъ славянскихъ класть не надобеть, но п_о_с_о_л_ь_с_к_а_г_о п_р_и_к_а_з_а употреби слова». Знаніе иностранныхъ языковъ являлось для Петра первымъ и главнымъ въ средѣ всѣхъ человѣческихъ знаній, и больше всего заботился онъ именно о развитіи въ Россіи стремленія къ изученію иностранныхъ языковъ. Еще въ самомъ началѣ своего царствованія, во время путешествія за границу, Петръ, прослышавъ, что братья Іихуды частнымъ образомъ обучаютъ желающихъ латинскому и итальянскому языкамъ, кромѣ своего преподаванія при Московскомъ греко-латинскомъ училищѣ, повелѣлъ 15 мая 1697 года, чтобъ у этихъ грековъ учились итальянскому языку дѣти бояръ и иныхъ чиновъ. Въ самомъ концѣ своей жизни, въ указѣ объ учрежденіи академіи наукъ въ С.-Петербургѣ (указъ этотъ состоялся какъ разъ за годъ до его кончины, т. е. 28 января 1724 г.), онъ опять выдвигаетъ на первый планъ знаніе языковъ и переводческую дѣятельность: «Учинить академію» — такъ сказано въ указѣ — «въ которой бы учились языкамъ, также прочимъ наукамъ и знатнымъ художествамъ и п_е_р_е_в_о_д_и_л_и-б_ы книги». Весь указъ вообще проникнутъ тѣмъ духомъ практицизма и пониманія современныхъ потребностей неразвитаго русскаго общества, которыя были въ такой высокой степени свойственны Петру; приводимъ изъ этого указа важнѣйшее:
«Къ расположенію и художествъ, и наукъ употребляются обычайно два образа зданія: первый образъ называется университетъ; второй — академія или соціететъ художествъ и наукъ. Понеже нынѣ въ Россіи званіе къ возращенію художествъ и наукъ учинено быть имѣетъ, того ради невозможно, чтобы здѣсь слѣдовать въ прочихъ государствахъ принятому образцу; но надлежитъ, смотря по состоянію здѣшняго государства, какъ въ разсужденіи обучающихъ, такъ и обучающихся и такое зданіе учинить, чрезъ которое бы не токмо слава его государства для размноженія наукъ нынѣшнимъ временемъ распространилась, но и черезъ обученіе и распложеніе оныхъ польза въ народѣ впредь была. При заведеніи простой академіи наукъ (т. е. академіи, какъ чисто ученой коллегіи, подобной академіямъ иноземнымъ) обои намѣренья не исполнятся, ибо хотя чрезъ оную художества и науки въ своемъ состояніи производятся и распространяются, однакожъ-де оныя не скоро въ народѣ расплодятся, а при заведеніи университета — меньше того; ибо когда разсудить, что еще прямыхъ школъ, гимназіевъ и семинаріевъ нѣтъ, въ которыхъ бы молодые люди началамъ обучиться и потомъ выше градусы наукъ воспріять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при такомъ состояніи университетъ нѣкоторую пользу учинить могъ. И такъ потребнѣе всего, чтобъ здѣсь таковое собраніе заведено было, ежелибъ изъ самолучшихъ ученыхъ людей состояло, которые довольны (т. е. способны) суть: 1) науки производить и совершить, однакожь-де тако, чтобы они тѣмъ наукамъ 2) молодыхъ людей публично обучали и чтобъ они 3) нѣкоторыхъ людей при себѣ обучали, которые бы младыхъ людей первымъ фундаментамъ всѣхъ наукъ паки обучать могли, и такимъ бы образомъ одно зданіе съ малыми убытками тое-же бы съ великою пользою чинило, что въ другихъ государствахъ три разныя собранія чинятъ» (т. е. академія, университетъ, гимназія). Этотъ указъ объ учрежденіи академіи лучше всего характеризуетъ намъ взглядъ Петра на образованіе: онъ не признаетъ его общечеловѣческаго значенія и полагаетъ, что его слѣдуетъ примѣнять къ потребностямъ времени и народа, въ средѣ котораго надлежало его распространять. Нельзя до нѣкоторой степени не признать справедливымъ такой взглядъ Петра по отношенію къ Россіи: не слѣдуетъ забывать, что образованнѣйшіе изъ числа русскихъ людей, въ 1717 году, изъ перевода книги астронома Гюйгенса, впервые получили понятіе о системѣ Коперника!
Взглядъ Петра на литературу точно также своеобразенъ, какъ и взглядъ на образованіе, и отличается тѣмъ же самымъ практицизмомъ и утилитарнымъ направленіемъ. Въ литературѣ онъ видѣлъ только средство къ уясненію, проведенію въ жизнь и оправданію своихъ преобразованій, — литературой же умѣлъ онъ пользоваться не только, какъ орудіемъ оборонительнымъ, противъ клеветъ и безсмысленныхъ обвиненій, взводимыхъ иностранцами на Россію но и какъ орудіемъ наступательнымъ противъ внутреннихъ, домашнихъ враговъ своихъ — раскольниковъ, ханжей, приверженцевъ стариннаго русскаго невѣжества и застоя. При Петрѣ впервые станокъ типографскій пріобрѣтаетъ на Руси надлежащее, важное значеніе и становится не плохою замѣною рукописнаго труда, а дѣйствительнымъ орудіемъ для быстраго, легкаго и повсемѣстнаго распространенія и обмѣна мыслей. Печатаются не только книги, но и рѣчи, сказанныя по поводу того или другаго важнаго событія, и торжественныя стихотворенія, сочиненныя по случаю побѣдъ и празднествъ, прославляющія величіе современной Петру Россіи, печатаются наконецъ (съ янв. 1703 года) первыя въ Россіи «Русскія вѣдомости», за изданіемъ которыхъ такъ зорко и тщательно слѣдитъ самъ Петръ Великій. Печатаются и въ Россіи книги не на одномъ только русскомъ языкѣ, а и на языкахъ иностранныхъ, дабы иностранцамъ дать возможность ближе ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ въ новой, преобразованной Петромъ Россіи; печатаются русскія книги для Россіи и на иностранныхъ языкахъ о Россіи въ Амстердамѣ, съ цѣлью опроверженія клеветъ противъ Россіи, распускаемыхъ въ Европѣ Швеціею. Чтобы дать понятіе о томъ усиленномъ значеніи, которое пріобрѣтаетъ въ Россіи книгопечатаніе при Петрѣ, достаточно будетъ припомнить здѣсь, что въ концѣ XVII столѣтія на всю Россію только и было, что двѣ типографіи: одна въ Кіево-печерской лаврѣ, другая въ Москвѣ на печатномъ дворѣ. Въ 1711 году появляется первая типографія въ Петербургѣ, а въ 1720 году, въ томъ же Петербургѣ, мы видимъ уже четыре типографіи, кромѣ новыхъ, возникшихъ въ Черниговѣ, въ Новгородъ-Сѣверскѣ и въ Новгородѣ; не мѣшаетъ замѣтить, что въ то же время въ Москвѣ была уже не одна, а двѣ типографіи.
Относясь съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ литературной дѣятельности монашества и духовенства, отъ котораго едва-ли можно было ожидать сочувствія реформѣ, Петръ, въ самомъ началѣ XVIII столѣтія (въ 1700—1701 гг.), приказываетъ у монаховъ, по монастырямъ, отобрать чернила, перья и бумагу. Въ то же самое время, принимая самыя рѣшительныя мѣры къ распространенію западной образованности въ Россіи, Петръ изыскиваетъ всевозможныя средства къ тому, чтобы открыть идеямъ реформы пути для проникновенія въ массу, въ народъ.
Петръ, способствуя развитію въ современной ему литературѣ отрицательнаго направленія, не чуждался никакихъ формъ отрицанія и осмѣянія недостатковъ того близкаго прошлаго, которое онъ стремился уничтожить и замѣнить новымъ, лучшимъ настоящимъ. Въ числѣ этихъ средствъ не послѣднее мѣсто, по мнѣнію Петра, долженъ былъ занимать и театръ, совершенно заброшенный и забытый въ Москвѣ со смертью царя Алексѣя Михайловича. Въ противуположность Ѳеодору Алексѣевичу, приказавшему въ 1676 году «очистить палаты, которыя заняты на комедію» 1), Петръ Великій учреждаетъ театръ народный, для всякаго чина людей, для «охотныхъ смотрѣльщиковъ», въ одномъ изъ лучшихъ мѣстъ древняго стольнаго города, на Красной площади, близъ т_р_і_у_м_ф_а_л_ь_н_ы_х_ъ избъ. Въ Данцигѣ заключаютъ договоръ съ принципаломъ одной изъ странствующихъ труппъ, І_о_г_а_н_н_о_м_ъ К_у_н_ш_т_о_м_ъ, и въ іюнѣ 1702 года этотъ новый «царскаго величества комедіантскій правитель» пріѣзжаетъ въ Москву. Въ началѣ октября 1702 г. взяты въ посольскій приказъ «для ученія комедійныхъ дѣйствъ разныхъ приказовъ подъячіе, и сказанъ имъ его, великаго государя, указъ, чтобъ они комедіямъ учились у комедіянта Ягана Куншта, и были бъ ему, комедіянту, въ томъ ученіи послушны». Куншту, въ свою очередь, объявлено, чтобы онъ ихъ «комедіямъ всякимъ училъ съ добрымъ радѣніемъ и со всякимъ откровеніемъ». Русскимъ ученикамъ комедіянта положено было жалованье, «смотря по персонамъ: за кѣмъ дѣло больше, тому и дать больше». Переводчикамъ посольскаго приказа повелѣно было «словами посольскаго приказа», «простымъ русскимъ языкомъ» передавать содержаніе «малыхъ оперъ и комедій» Куншта. Репертуаръ Кунштовой труппы былъ очень разнообразенъ: въ него входили пьесы, являвшіяся въ подлинникахъ на нѣмецкой, французской и итальянской сценѣ, но на русской сценѣ онѣ представляли совершенно свободную обработку иностранныхъ образцовъ, въ которыхъ далеко не все оказывалось въ равной степени доступнымъ пониманію переводчиковъ посольскаго приказа; такъ, напримѣръ, мастерски передавая шутовскія выходки, набрасывая даже мѣстный оттѣнокъ на комическія сцены, вставляя въ нихъ народныя русскія пословицы и поговорки, они оказывались совершенно безсильными въ передачѣ сентиментальныхъ изліяній, патетическихъ монологовъ и тѣхъ вычурныхъ, запутанныхъ заглавій, которыми щеголяла западно-европейская драматургія конца XVII и начала XVIII столѣтія. Сохранившіяся намъ заглавія пьесъ Кунштова репертуара, — въ родѣ: «Д_о_к_т_о_р_ъ п_р_и_н_у_ж_д_е_н_н_ы_й» (Medêcin malgrê lui), «П_р_е_л_ь_щ_е_н_н_ы_й л_ю_б_я_щ_і_й и_л_и Д_о_н_ъ П_е_д_р_о, п_о_ч_и_т_а_н_н_ы_й ш_л_я_х_т_а» и, наконецъ, знаменитая комедія «Ж_о_д_е_л_е_т_ъ и_л_и с_а_м_ы_й с_в_о_й т_ю_р_ь_м_о_в_ы_й з_а_к_л_ю_ч_н_и_к_ъ» (Le gêolier de soi meme on Jodelet) — служатъ намъ любопытнымъ и замѣчательнымъ памятникомъ этихъ первыхъ и тяжкихъ усилій нашихъ переводчиковъ на пользу перенесенія къ намъ изящной литературы европейской.
1) З_а_м_ы_с_л_о_в_с_к_і_й. Царствованіе Ѳеодора Алексѣевича I, примѣч. стр. ІV.
Но Петръ не довольствовался этой дѣятельностью Кунштовой труппы и дьяковъ посольскаго приказа. Онъ требовалъ отъ новой сцены живой связи съ современностью. По приказанію царя дьяки посольскаго приказа требуютъ отъ Куншта, чтобы онъ «въ скорости, какъ мощно, составилъ новую комедію о побѣдѣ и о врученьи великому государю крѣпости Орѣшка». Изъявляя желаніе, чтобъ «высшій Господь толикими побѣдами царское величество вѣнчалъ, колико дней въ году», Кунштъ просилъ дьяковъ «дать ему роспись, какъ обложеніе совершилось, и союзъ укрѣпился, закрытыми именами генераловъ и градъ называть». Профессоръ Тихонравовъ, передавая въ своей рѣчи этотъ любопытный фактъ, справедливо замѣчаетъ, что и «театръ долженъ былъ служить Петру тѣмъ же, чѣмъ была для него горячая, искренняя проповѣдь Ѳеофана Прокоповича: — онъ долженъ былъ разъяснять всенародному множеству истинный смыслъ дѣяній Преобразователя».
Понятно, что при такомъ взглядѣ на театръ, Петръ не могъ пренебрегать даже и грубой формою площадной сатиры, которая проявилась въ видѣ шутовскихъ и_н_т_е_р_м_е_д_і_й (т. е. междудѣйствій), вставлявшихся между дѣйствіями современныхъ пьесъ, когда эти пьесы давались не на придворномъ театрѣ, а въ частныхъ помѣщеніяхъ, куда допускаемо было большинство публики, безъ разбора званій. Въ этихъ интермедіяхъ выводимы были на сцену, на всеобщее осмѣяніе, типы всѣхъ личностей и тѣ черты современной народной жизни, къ которымъ съ неумолимою строгостью относился законъ: — раскольники, преслѣдуемые правительствомъ за суевѣріе и привязанность къ старинѣ, ставленникъ, добивающійся мѣста священника, дьячокъ, оплакивающій дѣтей, отбираемыхъ у него для отсылки въ семинарію, подъячіе, ловящіе въ мутной водѣ рыбу, приверженцы старины, оплакивающіе доброе старое время, когда можно было не брить ни бороды, ни усовъ, и не носить нѣмецкаго платья 1). Чтобы ознакомиться съ направленіемъ этой площадной сатиры, выразившейся въ интермедіяхъ петровскаго времени, стоитъ здѣсь привести изъ нея два-три отрывка. Вотъ, напримѣръ, какъ раскольникъ, приведенный въ ужасъ новыми порядками, описываетъ ихъ жиду, къ которому относится съ особеннымъ сочувствіемъ, принимая его за своего собрата, такъ какъ узнаетъ отъ него, что и тотъ тоже держится «с_т_а_р_о_й в_ѣ_р_ы»:
1) Въ 1705 г. послѣдовалъ указъ, по которому всѣ, кромѣ священно-церковнослужителей, въ Москвѣ должны были носить съ 2-го января вплоть до пасхи платье саксонское, а исподнее — камзолы, башмаки и проч. — нѣмецкое. Лѣтомъ надо было носить французскую одежду, отъ которой не избавлены были и крестьяне. Въ томъ же году велѣно брить бороды и усы, и наложена тяжкая подать на тѣхъ, кто не хотѣлъ подчиняться указу. Это возбудило сильный ропотъ въ народѣ, такъ какъ русскіе книжники учили, что всѣ міряне для спасенія души должны носить усы и бороды. Чтобы утишить эти толки, Дмитрій, митрополитъ ростовскій, написалъ весьма замѣчательный въ историческомъ отношеніи трактатъ «Объ образѣ и подобіи Божьемъ въ человѣцѣ».
Какъ-то нынѣ люди увязли глубоко,
Какъ-то жить въ мірѣ несносно и жестоко!
Послѣднія бо времена видимъ, что приспѣли,
Бо и нѣкоторые отъ нашихъ старцевъ антихриста зрѣли 1);
Подобаше ему пріити на землю, когда нашу старую вѣру попрали
Никонщики проклятые, свою же нѣкую новую незнаемо откуду взяли.
И не токмо вѣру нашу стару святу и Богомъ устроенну,
Еже апостоли святые и пророки носили,
Попрали, но и платіе долгое уже перемѣнили;
Русскіе нынѣ ходятъ въ короткомъ платьѣ якъ кургузы,
На главахъ же своихъ носятъ круглые картузы.
И тое они откуду взяли, ей недоумѣваемъ
И сказать о томъ истинно не знаемъ,
Что законъ и правила святыхъ отецъ возбраняютъ.
Свои брады на голо желѣзомъ обриваютъ.
Человѣцы ходятъ, яко облезьяны:
Вмѣсто главныхъ волосовъ, носятъ перуки, будто нѣмцы поганы.
Куды убѣгнемъ отъ строящихъ раздоры
Нашей вѣры старой: въ воду и въ горы.
1) Еще со временъ Никона у раскольниковъ начались толки о пришествіи на землю антихриста; при Петрѣ Великомъ стали даже появляться рукописныя сочиненія объ томъ-же къ великому соблазну народа.
Въ другой сценѣ той-же интермедіи, въ которой выведенъ раскольникъ и жидъ, подъячій приходитъ къ дьячку, чтобы взять дѣтей его въ семинарію 1).
1) Въ 1708 г. послѣдовалъ указъ о томъ, чтобы дѣтей священно-церковнослужителей отдавать учиться въ школы греческія и латинскія: при этомъ постановлено, что не бывшіе въ школахъ могутъ поступать только въ солдаты.
Дьячокъ.
правитьЛучше мнѣ теперь умереть,
Нежели на это смотрѣть,
Какъ меня дѣтей они лишаютъ
И въ семинарію на муку отбираютъ.
Пожалуй, батюшко: умилосердись надъ нами,
Напиши, пожалуй, что они негодны лѣтами! '
Подъячій на это соглашается, взявъ съ дьячка пятнадцать рублей взятки, какъ вдругъ является д_р_у_г_о_й п_о_д_ъ_я_ч_і_й, и говоритъ:
Ты еще здѣсь съ дьячкомъ тѣмъ зволишь балакать,
А намъ, право, тамъ лишь плакать;
Ужъ третью промеморію изъ семинаріи прислали,
Штобы вы скорѣе ихъ (т. е. дѣтей дьячка) сыскали
Первый подъячій.
правитьНу, братъ, какъ-нибудь свободи его дѣтей.
Другой подъячій.
правитьБоюсь: за это вѣдь въ приказѣ схватишь плетей!
Ну, дьячокъ, давай ихъ скоряя,
Ни мало не отлагая!
Дьячокъ.
правитьВсѣ мои знакомцы и вся моя родня, сберитеся сюда,
Посмотрите, какая на меня пришла бѣда!
Дѣтей моихъ отъ меня отнимаютъ,
И въ проклятую серимарію на муку обираютъ.
О, мои дѣтушки сердечныя,
Не на ученье васъ берутъ, а на мученье безконечное;
Лучше вамъ не родиться на сей свѣтъ, а хотя и родиться,
Того-жъ часа киселемъ задавиться и въ воду утопиться.
Подъячій первый.
правитьО, у тя, какъ вижу, плачу конца не дождаться;
Пора уже намъ къ городу подвигаться.
Ну, дьячокъ, прощай добрый человѣкъ,
Дай тебѣ богъ множество лѣтъ;
А впредь, пожалуй, знайся съ нами,
Съ подъячими и приказными строками!
Дьячокъ.
правитьПрямь, што не отъ дурова люди говорятъ,
Што подъячи-то люди,
Ажно люты они, да и не худы.
Вотъ теперь денъжки-то съ меня схолодили,
Впередъ-же я ихъ теперь буду знать,
А когда случай придетъ, не такъ буду поступать.
Въ заключеніе этой главы, бросая общій взглядъ на эпоху преобразованій, мы должны сознаться, что эпоха эта отзывалась страшными тягостями и въ народѣ, и въ обществѣ… Трудна была школа и строгъ былъ учитель, посланный судьбою Россіи въ лицѣ Петра! Русскій человѣкъ Петрова времени не зналъ ни отдыха, ни покоя, и, можетъ быть, только благодаря своему здоровому, крѣпкому нравственному организму, съумѣлъ перенести это тяжкое время переворотовъ и выйти изъ него со славою, но это только одна сторона; есть и другая: — «народъ дѣйствительно учится; учится не одной цифири и геометріи, не въ однѣхъ школахъ русскихъ и заграничныхъ: народъ учится гражданскимъ обязанностямъ, гражданской дѣятельности. При изданіи каждаго важнаго постановленія, при введеніи важнаго преобразованія, законодатель объясняетъ, почему онъ такъ дѣлаетъ, почему новое лучше стараго. Русскій человѣкъ получаетъ впервые наставленія подобнаго рода. Впервые мысль русскаго человѣка была возбуждена, его вниманіе обращено на важные вопросы государственнаго и общественнаго строя. Сочувственно или несочувственно обращались къ словамъ и дѣламъ царя, — все равно, надъ этими словами и дѣлами думали; эти слова и дѣла постоянно будили русскаго человѣка. Что могло погубить общество одряхлѣвшее, народъ, неспособный къ развитію, то развило силы молодаго и крѣпкаго народа, долго спавшаго и нуждавшагося въ сильномъ толчкѣ для пробужденія» 1).
1) Соловьевъ, ХѴIIІ, 251—2.
Весьма любопытнымъ явленіемъ Петровскаго времени, свидѣтельствующимъ о пробужденіи народа и о томъ, что идеи Петровы, глубоко проникая въ массу, находили себѣ въ ней и сочувственные отголоски, представляется намъ личность крестьянина-писателя И_в_а_н_а Т_и_х_о_н_о_в_и_ч_а П_о_с_о_ш_к_о_в_а (род. около 1670 г.). Посошковъ былъ человѣкомъ состоятельнымъ, даже богатымъ по тому времени. Какъ человѣкъ не просто грамотный, но и весьма начитанный, онъ до глубины души проникнутъ былъ идеями реформы, и потому самому «изъ презѣльной горячности къ отечеству» (по его собственному выраженію) сталъ писать проекты и книги, въ которыхъ старался обратить вниманіе правительства на многіе недостатки общественные и указать средства къ ихъ исправленію: «ибо», говоритъ онъ, «я отъ юности своея бѣхъ таковъ, и лучше ми каковую либо пакость на себя понести, нежели, видя что неполезно, умолчати». Сочувствіе свое къ реформамъ выражалъ онъ не только въ однихъ сочиненіяхъ и проектахъ своихъ, но и болѣе дѣятельно — въ самой: жизни. Сынъ Посошкова былъ въ числѣ первыхъ русскихъ молодыхъ людей, отправленныхъ за границу въ 1708 г. для обученія. Отецъ, отпуская его на чужбину, снабдилъ его и щедрымъ, почти роскошнымъ, по тому времени, содержаніемъ, и особеннымъ писаннымъ наставленіемъ, на которомъ набросанъ былъ для него подробный планъ дѣйствій. Это наставленіе сыну, извѣстное подъ названіемъ «отеческаго завѣщательнаго поученія», сохранилось намъ въ числѣ многихъ другихъ сочиненій Посошкова, одинъ изъ любопытнѣйшихъ памятниковъ эпохи преобразованія. Новымъ, живымъ духомъ вѣетъ отъ этихъ наставленій отца, заботливо распредѣляющаго по часамъ время своего сына, расчитывающаго по гульденамъ и стиверамъ его расходы во время пребыванія въ У_р_о_п_с_к_и_х_ъ с_т_р_а_н_а_х_ъ, и въ тоже время совѣтующаго ему и тамъ, на чужбинѣ, въ праздничные дни «памятовати убогаго, гладомъ или наготою страждуща, н_е в_з_и_р_а_я, к_а_к_о_в_а т_о_й п_о_р_о_д_ы и в_ѣ_р_ы». Особенно замѣчательною и прекрасно характеризующею Петровскую эпоху является та небольшая программа заграничнаго ученія, которую начертываетъ отецъ сыну, указывая при этомъ и размѣръ потребностей, и самую цѣль стремленій современнаго образованія:

«С_к_о_р_ѣ_й_ш_а_г_о р_а_д_и и у_д_о_б_н_а_г_о п_о_л_у_ч_е_н_і_я н_а_у_к_ъ, совѣтую ти нѣмецкой или наипаче французскій языкъ учити, и въ началѣ въ томъ языкѣ, его же изберешь, учити ариѳметику, яже всѣмъ математическимъ наукамъ дверь и основаніе есть; потомъ сокращенную математику, яже въ себѣ содержитъ геометрію, архитектуру и фортификацыю, еже вѣдѣніе земнаго глобуса, тоже искуство земныхъ и морскихъ чертежей, компаса, теченіе солнца и знамяныхъ звѣздъ, н_е р_а_д_и т_о_г_о, д_а_б_ы т_я с_о_т_в_о_р_и_т_и и_н_ж_е_н_е_р_о_м_ъ и_л_и к_о_р_а_б_е_л_ь_щ_и_к_о_м_ъ, н_о е_г_д_а и_з_в_о_л_е_н_і_е_м_ъ с_а_м_о_д_е_р_ж_а_в_н_ѣ_й_ш_а_г_о м_о_н_а_р_х_а н_а_ш_е_г_о п_о с_л_у_ч_а_ю к_ъ т_а_к_и_м_ъ д_ѣ_л_а_м_ъ б_у_д_е_ш_ь п_р_и_с_т_а_в_л_е_н_ъ, е_г_д_а п_о н_у_ж_д_ѣ в_о_с_т_р_е_б_у_е_т_с_я т_о. Инъ иноземецъ инженеръ въ случаѣ укрѣпленія коего града или во облежаніи непріятельской крѣпости… неправо учнетъ къ шкодѣ или поврежденію цѣлости великаго государя градовъ или дѣлъ творить, тогда ты самъ, вѣдѣніемъ тѣхъ наукъ наполненъ… возможешь познати правду, и тѣмъ пріимешь отъ великаго государя и монарха своего похвалу, ,а такіе иноземцы, не право учиня, къ тебѣ будутъ имѣти страхъ» 1). Замѣчательнѣйшее изъ этихъ сочиненій — «Книга о скудости и богатствѣ», надъ которою Посошковъ, «утаенно отъ зрѣнія людскаго», трудился три года. Книга Посошкова представляетъ полное изслѣдованіе о состояніи Россіи во время Петра I, и подраздѣляется на 9 главъ: 1) о д_у_х_о_в_н_о_с_т_и, 2) о в_о_и_н_с_к_и_х_ъ д_ѣ_л_а_х_ъ, 3) о п_р_а_в_о_с_у_д_і_и, 4) о к_у_п_е_ч_е_с_т_в_ѣ, 5) о д_у_х_о_в_е_н_с_т_в_ѣ, 6) о р_а_з_б_о_й_н_и_к_а_х_ъ, 7) о к_р_е_с_т_ь_я_н_с_т_в_ѣ, 8) о д_в_о_р_я_н_№123;_х_ъ, к_р_е_с_т_ь_я_н_ѣ_х_ъ и о з_е_м_л_я_н_ы_х_ъ д_ѣ_л_а_х_ъ, 9) о ц_а_р_с_к_о_м_ъ и_н_т_е_р_е_с_ѣ. Въ 1724 году представилъ онъ эту книгу Петру, прося только о томъ, чтобы имя его оставалось «сокровенно отъ сильныхъ лицъ, паче же отъ нелюбящихъ правды». Поводомъ къ такой предосторожности со стороны Посошкова было именно то, что онъ въ книгѣ своей указывалъ на средство, «какъ бы истребить изъ народа неправду и водрузить прямую правду и безпечное житіе народное». Въ числѣ средствъ, указываемыхъ Посошковымъ, упоминается и объ уравненіи отношеній между помѣщиками и крестьянами, объ учрежденіи одного суда, общаго, равнаго для всѣхъ чиновъ и сословій, объ улучшеніи быта духовенства, въ особенности сельскаго, которое, по бѣдности своей, почти не отличалось въ быту отъ крестьянства, а по малограмотности способствовало развитію въ народѣ раскола и суевѣрій и т. д. Съ другой стороны, въ той же книгѣ, Посошковъ занимается вопросами чисто экономическими, давая «изъясненіе, отчего содѣвается напрасная скудность, и отчего умножиться можетъ изобильное богатство». При этомъ, не смотря на всю непослѣдовательность своего изложенія, Посошковъ высказываетъ замѣчательную остроту и правильность взгляда на политико-экономическую сторону государственнаго строя: — «не въ томъ дѣло», говоритъ онъ, «чтобы въ казнѣ денегъ много лежало, а въ томъ, чтобы самый народъ былъ богатъ и пользовался извѣстной степенью благосостоянія». Но все это Посошковъ считаетъ возможнымъ только при совершенно правильномъ устройствѣ правосудія и при полномъ огражденіи народа отъ «явныхъ грабителей (разбойниковъ и воровъ) и потаенныхъ грабителей (взяточниковъ)»… «И донележе прямое правосудіе у насъ въ Россіи не устроится и всесовершенно не укоренится, то никакими мѣрами богатымъ намъ быть невозможно, такожде и славы доброй намъ не нажить, донеже всѣ пакости и непостоянства въ насъ чинятся отъ неправаго суда, отъ нездраваго разсужденія, отъ неразсмотрительнаго правленія и отъ разбоевъ. Крестьяне, оставя домы, бѣгутъ неправды. Древнихъ уставовъ не измѣня, самаго правосудія насадить и утвердити невозможно. Неправда въ правителяхъ вкоренилась и застарѣла: отъ мала до вели-ка всѣ стали быть поползновенны — овые ко взяткамъ, овые же боящеся сильныхъ лицъ. И того ради всякія дѣла государевы неспоры, и сыски неправы, и указы недѣйствительны, ибо всѣ правители дворянскаго чина знатнымъ наровятъ, а власть имутъ и дерзновеніе только надъ самыми маломочными людьми, а нарочитымъ дворянамъ не смѣютъ и слова воспретительнаго изрещи… Видимъ мы всѣ, какъ великій нашъ монархъ трудитъ себя, да ничего не успѣетъ, потому что способниковъ по его желанію немного: онъ на гору аще и самъ-десятъ тянетъ, да подъ гору милліоны тянутъ, то какъ дѣло его споро будетъ?»
1) Сочиненія Посошкова, I, 297—8.
Этотъ замѣчательный по своему уму, честности и общественному положенію дѣятель Петровской эпохи могъ однакоже высказывать такъ свободно свои мысли о недостаткахъ современнаго общественнаго строя только Петру. Его рѣзкій и прямой взглядъ не понравился многимъ изъ высокопоставленныхъ современниковъ его. Вскорѣ послѣ смерти Петра, Посошковъ, неизвѣстно по какой винѣ, былъ арестованъ, по распоряженію тайной канцеляріи, и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость, гдѣ и скончался въ февралѣ 1726 г.

XXII.
правитьѲеофанъ Прокоповичъ. — Годы ученія и странствованій. — Дѣятельность профессорская. — Сближеніе съ Петромъ. — Духовный регламентъ. — Ѳеофанъ, какъ общественный дѣятель. — Ѳеофанъ, какъ ученый и литераторъ — Ѳеофанъ, какъ частный человѣкъ.
правитьВсѣ преобразованія Петра были только крайнею степенью развитія того умственнаго и нравственнаго движенія, которое зародилось у насъ съ конца XVI и начала XVII вѣка на Юго-Западѣ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ того напора европейской цивилизаціи, въ которомъ выражалось ея неуклонное движеніе съ Запада на Востокъ. Кіевскіе ученые явились первыми носителями западной цивилизаціи на дальнемъ московскомъ сѣверо-востокѣ и первые, открыто, всенародно, съ церковной каѳедры вступились за права науки и образованія. Въ этихъ-то первыхъ піонерахъ западной цивилизаціи Петръ нашелъ себѣ дѣятельныхъ помощниковъ и вѣрныхъ цѣнителей. Но вслѣдствіе того, что Петръ ближе ихъ знакомъ былъ и съ западной цивилизаціей, и съ коренными свойствами русской природы, онъ вскорѣ пошелъ въ своихъ преобразованіяхъ гораздо далѣе всего, что казалось достижимымъ и возможнымъ для образованнѣйшихъ людей нашего юго-запада. Многіе изъ нихъ, по этому самому, отвернулись отъ Петра, перестали понимать его дѣйствія, перестали вѣрить въ возможность достиженія тѣхъ цѣлей, къ которымъ онъ стремился, — и только одинъ изъ нихъ рѣшился рука объ руку идти съ геніальнымъ Петромъ до конца, и даже послѣ смерти Петра не переставалъ защищать и осуществлять его идеи.

Успѣхъ кіевскихъ ученыхъ при Петрѣ объясняется для насъ не только однимъ недостаткомъ въ людяхъ просвѣщенныхъ и знающихъ языки древніе и новѣйшіе: значительною долею этого успѣха обязаны они и тому утилитарному, практическому направленію своей учености, которое, какъ мы видѣли выше, было вызвано въ средѣ юго-западной образованности самыми историческими условіями, породившими ее. Петръ видѣлъ въ нихъ людей пригодныхъ, которые съумѣютъ изъ науки своей сдѣлать практическое примѣненіе къ современнымъ общественнымъ условіямъ жизни, съумѣютъ и литературой воспользоваться, какъ средствомъ для проведенія извѣстныхъ идей въ общество — и вотъ почему онъ такъ постоянно оказывалъ имъ свое покровительство. Съ самаго начала царствованья онъ милостиво отнесся къ Кіево-могилянской коллегіи, которой отъ него повелѣно было въ 1707 году именоваться «Академіей»; даже и ранѣе это-го времени, а именно въ 1701 году, Петръ велѣлъ ввести «у_ч_е_н_і_я л_а_т_и_н_с_к_і_я» въ Московской духовной академіи или, иначе сказать, видоизмѣнить въ ней преподаваніе наукъ по образцу академіи Кіевской. Затѣмъ, мало-по-малу, наступаетъ для кіевскихъ ученыхъ наиболѣе блестящій періодъ ихъ славы; они являются всюду преобладающими и становятся во главѣ церковнаго управленія и просвѣщенія Россіи: — С_т_е_ф_а_н_ъ Я_в_о_р_с_к_і_й (ум. 1722 г.), по смерти послѣдняго патріарха, назначается мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола; Г_а_в_р_і_и_л_ъ Б_у_ж_и_н_с_к_і_й становится во главѣ русскаго книгопечатанья и зарождающагося на сѣверѣ школьнаго образованія, какъ п_р_о_т_е_к_т_о_р_ъ ш_к_о_л_ъ и т_и_п_о_г_р_а_ф_і_й; Ѳ_е_о_ф_и_л_а_к_т_ъ Л_о_п_а_т_и_н_с_к_і_й избранъ въ ректоры Московской академіи (въ которую не задолго предъ тѣмъ кіевскихъ ученыхъ не допускали даже преподавателями), а съ 1723 года посвященъ въ тверскіе епископы; Дмитрій (Туптало), гораздо ранѣе этого времени, въ 1702 году, уже возведенъ въ санъ митрополита ростовскаго и ярославскаго; наконецъ, на верху всѣхъ почестей и духовныхъ, и свѣтскихъ является знаменитѣйшій изъ сподвижниковъ и совѣтниковъ Петровыхъ, разумнѣйшій и ревностнѣйшій исполнитель его воли — Ѳеофанъ Прокоповичъ, архіепископъ новгородскій Ѳеофанъ родился въ Кіевѣ 7 іюня 1681 года. До осьмнадцатилѣтняго возраста обучался онъ въ кіевскихъ школахъ и потомъ въ Кіево-могилянской академіи, гдѣ поражалъ всѣхъ наставниковъ своими необыкновенными дарованіями, живымъ и острымъ умомъ и весьма привлекательною внѣшностью. Любознательность его, однакоже, не могла удовлетвориться тѣмъ, что способна была доставить ему Кіево-могилянская коллегія; и вотъ онъ, подобно многимъ другимъ молодымъ людямъ своего времени, отправляется за границу, въ польскія школы, а такъ какъ въ польскія школы не принимали никого изъ принадлежащихъ къ восточному вѣроисповѣданью, то Ѳеофанъ вынужденъ сдѣлаться уніатомъ. Достаточно уже образованный и твердый въ наукахъ, Ѳеофанъ и здѣсь оставался не долго, постоянно стремясь углубить и расширить кругъ своихъ свѣдѣній, и вскорѣ, черезъ славянскія земли, черезъ сѣверную Италію, пробрался въ отчизну искусствъ — въ Римъ. Здѣсь Ѳеофанъ поступилъ въ знаменитый коллегіумъ св. Аѳанасія, учрежденный папою Григоріемъ XIII съ тою спеціальною цѣлью, чтобы въ немъ могли получать образованіе молодые люди изъ грековъ и славянъ. Преподавателями тамъ были іезуиты, и Ѳеофанъ сдѣлался вскорѣ ихъ общимъ любимцемъ: его полюбили и за веселый, привлекательный характеръ его, и за способность къ наукамъ. Его отличали отъ всѣхъ товарищей, открыли ему свободный доступъ во всѣ библіотеки, и Ѳеофанъ (всегда съ большимъ уваженіемъ отзывавшійся о своихъ преподавателяхъ-іезуитахъ, и особенно о старшемъ изъ нихъ, въ вѣдѣніи котораго состоялъ весь коллегіумъ) вспоминалъ съ особеннымъ удовольствіемъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него древними классиками, съ которыми впервые ему удавалось въ ту пору знакомиться въ настоящихъ подлинникахъ, а не по школьнымъ, очищеннымъ и сглаженнымъ изданіямъ. Извѣстно, что іезуиты дѣлали неоднократно Ѳеофану и весьма выгодныя преложенія, обѣщая ему блестящую карьеру въ будущемъ, въ томъ случаѣ, еслибы онъ вступилъ въ ихъ семинарію или въ духовное званіе. Но Ѳеофанъ ловко отклонилъ всѣ подобныя предложенія и воспользовался своимъ пребываніемъ въ Римѣ только для того, чтобы съ любовью изучить безсмертныя сочиненія классиковъ и творенія отцовъ церкви римской и греческой; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внимательно осматривалъ памятники классической и церковной древности, вникалъ въ подробности папскаго правленія, духовнаго и свѣтскаго, и зорко слѣдилъ за всѣмъ, что происходило на глазахъ у него, при избраніи папы Клемента XI (въ 1700 г.). Здѣсь-то, въ Римѣ — центрѣ католическаго міра — запасшись громадною ученостью богословскою и окончательно усвоивъ себѣ блестящее классическое образованіе, Ѳеофанъ собралъ вмѣстѣ съ тѣмъ и драгоцѣннѣйшій матерьялъ для правдивой оцѣнки «папежскаго духа», проникавшаго къ намъ черезъ Польшу, и навѣки сдѣлался заклятымъ врагомъ Рима. Около 1702 года, претерпѣвъ множество разныхъ бѣдъ и лишеній на обратномъ пути своемъ въ Россію, Ѳеофанъ наконецъ, возвратился въ Кіевъ, былъ разрѣшенъ отъ всякихъ связей своихъ съ уніей, постриженъ въ монахи и потомъ; принятъ преподавателемъ въ Кіевскую академію. Здѣсь, въ бытность свою учителемъ поэзіи, Ѳеофанъ составилъ курсъ п_і_и_т_и_к_и и написалъ трагикомедію «Владиміръ», представленную академистами на школьной сценѣ, въ іюлѣ 1705 года. Послѣднее произведеніе замѣчательно уже по смѣлости въ выборѣ сюжета не изъ библейской, а изъ отечественной исторіи; къ тому же, по самой отдѣлкѣ нѣкоторыхъ изъ числа выведенныхъ въ ней характеровъ, обрисованныхъ бойко и съ неподдѣльнымъ комизмомъ, пьеса эта стоитъ далеко выше всѣхъ современныхъ ей школьныхъ драмъ. И на сколько Ѳеофанъ, въ этой трагикомедіи своей, выказалъ себя оригинальнымъ и независимымъ по отношенію къ правиламъ современной риторики, на столько же оригинальнымъ и независимымъ отъ нея явился онъ и въ той первой своей привѣтственной рѣчи къ Петру Великому, которую сказалъ онъ Императору во время его пребыванія въ Кіевѣ въ 1706 году. Не обращаясь ни къ какимъ библейскимъ и классическимъ сравненіямъ и «прикладамъ», Ѳеофанъ очень ловко связалъ свой панегирикъ Петру съ воспоминаніями изъ отечественной исторіи о тѣхъ событіяхъ и лицахъ, для которыхъ кіевскіе памятники служили живою лѣтописью; въ концѣ рѣчи, еще болѣе ловко вставилъ Ѳеофанъ словечко и о неслыханной простотѣ жизни и одежды монарха, объ отвращеніи его къ пышности: «Пресвѣтли монархо нашъ», — такъ заключилъ Ѳеофанъ — «множае удивляемся величеству твоему, видяще тя въ общей одеждѣ, нежели аще бы видѣнъ былъ еси въ царскомъ украшеніи: величество бо царское не въ порфирѣ свѣтлой, не въ златой діадимѣ зрится, но въ силѣ, крѣпости, мужествѣ, въ храбрыхъ и удивленія достойныхъ дѣлахъ…»
Другое торжественное, поздравительное слово сказано было Ѳеофаномъ Петру въ 1709 году, черезъ двѣ недѣли послѣ полтавской побѣды, и такъ понравилось Петру, что тогда-же было, по его приказанію, напечатано на славянскомъ и латинскомъ языкахъ, вмѣстѣ съ русскими, польскими и латинскими стихами, которыми отовсюду привѣтствовали побѣдителя. Всѣмъ особенно понравилось въ этомъ словѣ сближеніе съ библейской исторіей, сдѣланное ораторомъ; онъ напомнилъ своимъ слушателямъ, что битва происходила въ день св. Сампсона, который растерзалъ льва: «отъ ядущаго ядомое изыде и отъ крѣпкаго изыде сладкое». Ѳеофанъ не забылъ при этомъ и сильнаго любимца царскаго, Меншикова, и ему въ томъ же году посвятилъ особое похвальное слово.
Съ этихъ поръ, и особенно послѣ того, какъ Ѳеофану пришлось сопровождать царя въ несчастливо-окончившійся турецкій походъ 1711 года, Петръ уже явно благоволилъ къ Ѳеофану, видѣлъ въ немъ человѣка надежнаго и пригоднаго, и рѣшился приблизить его къ себѣ въ виду тѣхъ обширныхъ реформъ по устройству русской церкви, которыя готовился онъ со временемъ привести въ исполненіе. Еще около пяти лѣтъ пришлось однакоже Ѳеофану оставаться въ Кіевѣ, при академіи, занимаясь преподаваніемъ философіи и математики; но въ 1716 году, Ѳеофанъ, по волѣ Петра, вызванъ былъ въ Петербургъ, и хотя не засталъ тамъ государя, находившагося въ то время за границей, однакоже немедленно вступилъ на тотъ путь, которымъ ему суждено было идти до самой смерти Петра.
Ѳеофанъ, въ отсутствіе Петра, усердно принялся за дѣятельность ораторскую, и проповѣди его имѣли такое важное значеніе по отношенію къ современности, что каждая изъ нихъ тотчасъ же печаталась и пересылалась Государю за границу. Ѳеофилъ въ этихъ проповѣдяхъ является скорѣе свѣтскимъ ораторомъ, нежели духовнымъ лицомъ, и въ основу своей проповѣди избираетъ обыкновенно не поученіе нравственное, не разъясненіе догматовъ, а изложеніе и разъясненіе современныхъ политическихъ событій, дѣйствій правительства и даже видовъ его на будущее время; все это было излагаемо и изъясняемо Ѳеофаномъ, конечно, съ правительственной точки зрѣнія, вполнѣ согласно съ воззрѣніями самого Петра. Съ восторженными похвалами отзывался онъ о каждомъ дѣйствіи Петра, указывалъ на пользу путешествія Государя за границу, призывалъ всѣхъ къ подражанію ему и старался оправдать каждое его распоряженіе, каждое нововведеніе.
По возвращеніи Государя изъ-за границы, Ѳеофанъ былъ посвященъ въ епископы новгородскіе; незадолго передъ тѣмъ онъ сказалъ свою знаменитую проповѣдь «о в_л_а_с_т_и и ч_е_с_т_и ц_а_р_с_к_о_й», въ которой уже ясно видны намеки на подготовляемыя Петромъ важныя реформы въ церковномъ устройствѣ. Ѳеофанъ проводитъ въ этой проповѣди ту мысль, что всѣ сословія въ государствѣ должны быть подчинены и подсудны Государю, и прибавляетъ: «многіе мыслятъ, что не вси весьма людіе симъ долженствомъ обязаны суть, но нѣкіи выключаются, именно же священство и монашество. Се тернъ, или паче рещи, жало, но жало се зміино есть, лапежскій се духъ, но не вѣмъ, какъ то досягающій и касающійся насъ; священство бо иное дѣло, иный чинъ есть въ народѣ, а не и_н_о_е г_о_с_у_д_а_р_с_т_в_о».
И дѣйствительно, въ 1719 г., когда Государь рѣшился учредить новую форму церковнаго правленія, онъ поручилъ Ѳеофану составить уставъ духовной коллегіи, который и былъ имъ составленъ подъ заглавіемъ: «Д_у_х_о_в_н_ы_й Р_е_г_л_а_м_е_н_т_ъ». Самъ Ѳеофанъ писалъ объ этомъ замѣчательномъ трудѣ своемъ къ одному изъ друзей слѣдующее: «Я написалъ для главной церковной коллегіи или консисторіи постановленіе или регламентъ. Въ немъ всѣхъ правилъ почти триста. Его Величество приказалъ прочесть это сочиненіе въ своемъ присутствіи и, перемѣнивъ кое-что немногое и прибавивъ отъ себя, весьма одобрилъ; потомъ приказалъ прочитать въ сенатѣ, гдѣ присутствовали сенаторы и шесть епископовъ Читано было дважды въ теченіи двухъ дней и еще прибавлено нѣсколько новыхъ замѣчаній; потомъ приложили руки съ одной стороны епископы, съ другой сенаторы; въ заключеніе подписалъ самъ Государь. Сдѣлано два экземпляра этого акта: одинъ отданъ для храненія въ царскіе архивы, другой отправленъ въ Москву и другія мѣста для подписки неприсутствовавшимъ епископамъ. Когда регламентъ, такимъ образомъ закрѣпленный общимъ подписаніемъ, возвратится, онъ будетъ отданъ для напечатанья и откроется коллегія или постоянный правительствующій сѵнодъ, чего дай Боже».
Въ томъ же самомъ смыслѣ, Ѳеофанъ прибавляетъ: «пишу теперь трактатъ, въ которомъ изложу, что такое патріаршество и когда оно получило начало въ церкви и какимъ образомъ, въ теченіи 400 лѣтъ, церкви управлялись безъ патріарховъ и доселѣ еще нѣкоторыя патріархамъ не подчинены. Э_т_о_т_ъ т_р_у_д_ъ я п_р_и_н_я_л_ъ н_а с_е_б_я д_л_я з_а_щ_и_т_ы у_ч_р_е_ж_д_а_е_м_о_й к_о_л_л_е_г_і_и, ч_т_о_б_ы о_н_а н_е п_о_к_а_з_а_л_а_с_ь ч_ѣ_м_ъ-н_и_б_у_д_ь н_о_в_ы_м_ъ и н_е_о_б_ы_ч_н_ы_м_ъ, к_а_к_ъ, к_о_н_е_ч_н_о, б_у_д_у_т_ъ у_т_в_е_р_ж_д_а_т_ь л_ю_д_и н_е_в_ѣ_ж_е_с_т_в_е_н_н_ы_е и з_л_о_н_а_м_ѣ_р_е_н_н_ы_е». Изъ этого видно, съ какою осторожною осмотрительностью дѣйствовалъ Ѳеофанъ на трудномъ поприщѣ своемъ и какъ заботился о томъ, чтобы, защищая Петровы реформы, отстаивая ихъ шагъ за шагомъ противъ нападковъ партіи, враждебной Петру, въ то же время — давать имъ прочную точку опоры со стороны исторіи науки; и въ этомъ случаѣ онъ, конечно, благодаря своей обширной учености, употреблялъ въ борьбѣ противъ враговъ реформы такое оружіе, противъ котораго они не могли ничѣмъ защищаться. Петръ вполнѣ понималъ Прокоповича, вполнѣ оцѣнивалъ его дѣятельность и умѣлъ превосходно пользоваться неутомимымъ трудолюбіемъ и неистощимымъ запасомъ свѣдѣній этого человѣка, котораго, при его свѣтломъ умѣ, Петру такъ легко было руководить и направлять сообразно своимъ цѣлямъ.
Понятно, почему, при Петрѣ, Ѳеофанъ, какъ авторъ «Духовнаго Регламента», и притомъ любимецъ государевъ, осыпаемый его милостями, тотчасъ послѣ учрежденія сѵнода (1721 г.) сталъ во главѣ церковнаго управленія, хотя Стефанъ Яворскій и былъ назначенъ президентомъ сѵнода. Какою силою и значеніемъ пользовался въ это время Ѳеофанъ, — видно изъ той рѣзкой проповѣди, которую, по случаю открытія св. сѵнода, Ѳеофанъ говорилъ, въ присутствіи Государя, 14 февраля 1721 г. Въ этой проповѣди онъ не только безпощадно порицаетъ все управленіе церковное допетровскаго времени, но и позволяетъ себѣ самые рѣзкіе нападки на современное состояніе духовенства. Въ этихъ нападкахъ нельзя не видѣть и весьма ясныхъ намековъ на современныхъ Ѳеофану высшихъ представителей духовнаго сословія, относившихся враждебно къ его богословской и ораторской дѣятельности. Очень хорошо понимая, что въ основу, церковной реформы, предпринятой Петромъ, положено было стремленіе къ исправленію и очищенію духовно-нравственной жизни народа при помощи наставленій со стороны образованныхъ пастырей, Ѳеофанъ обращаетъ на эту сторону вопроса преимущественное вниманіе:
«Коей пользы надѣятися отъ правительства духовнаго» — говоритъ онъ — «кажется мнѣ, есть человѣка умомъ весьма ослѣпленнаго; ибо онъ не видитъ, или видѣти таковый нехощетъ, каковую нищету и бѣдство страждетъ христіанской народъ, когда нѣтъ духовнаго ученія и правленія. У насъ, слава Богу, все хорошо, и не требуютъ здравіи врача, но болящіи. Но такъ себе и прочіихъ льстятъ сіи окаянницы, якоже иногда во Іерусалимѣ народъ и священство… льстили себѣ сладкимъ льщеніемъ: „м_и_р_ъ, м_и_р_ъ, и н_е б_ѣ м_и_р_ъ“ — якоже пророкъ (Іеремія) сѣтуетъ».
…"Какій убо у насъ миръ? Какое здравіе наше? До того пришло, что всякъ, хотя бы пребеззаконнѣйшій, думаетъ себе быти честнѣе и паче прочихъ святѣйшѣе: то наше здравіе. До того пришло, что чуть не всѣ, бревна въ своемъ оцѣ не ощущающіи, сучецъ усматриваютъ въ очесѣхъ ближняго: то нашъ миръ. До того пришло, то пріемшіи власть наставляти и учити людей сами христіанскаго перваго ученія, еже апостолъ млекомъ нарицаетъ, не вѣдаютъ. До того пришло, и въ та мы времена родилися, когда слѣпіи слѣпыхъ водятъ, саміи грубѣйшіи невѣжды богословствуютъ и догматы, смѣха достойные, пишутъ, ученія бѣсовская предаютъ, и во преданіи бабіимъ баснемъ скоро вѣруется; прямое же и основательное ученіе не точію не лолучаетъ вѣры, но и гнѣвъ, вражду, угроженія, вмѣсто возмездія пріемлетъ. Таковъ миръ нашъ, такое здравіе наше".
«…Видя же сіе, видимъ какъ нужное дѣло твое духовная коллегія; видимъ нужную ниву жатвы твоей… тебѣ весь сей въ Россіи домъ Божій ввѣренъ; тебѣ и дѣлати, и дабы правильно дѣлалось, наблюдати, наставляти и настояти подобаетъ».
Въ словахъ, предшествующихъ этому обращенію къ духовной коллегіи, мы видимъ явный намекъ на то, что современное духовенство вообще относилось очень враждебно къ дѣятельности Ѳеофана; и дѣйствительно, враговъ въ средѣ духовенства у него было очень много и даже еще при жизни Петра Великаго на него въ разное время было сдѣлано нѣсколько доносовъ, въ которыхъ Ѳеофана обличали не только въ дурной жизни, но и въ неправильности религіозныхъ воззрѣній, въ преднамѣренномъ искаженіи догматовъ, почти въ ереси. Такія обвиненія взводились на него преимущественно московскимъ духовенствомъ, которое все еще жило своими старыми преданіями и притомъ не могло простить Ѳеофану его сочувствія и ревностнаго содѣйствія Петру въ тѣхъ реформахъ его, которыя собственно касались новаго церковнаго устройства. Съ другой стороны, высшіе представители московскаго духовенства, напуганные тѣмъ, что лютеранство и кальвинизмъ стали было сильно распространяться въ Москвѣ около 20-хъ годовъ XVIII столѣтія, вынужденные даже къ усиленной полемикѣ противъ тѣхъ, которые увлекались этими новыми ученьями, способны были иногда видѣть наклонность къ кальвинизму и лютеранству въ каждомъ человѣкѣ, порицавшемъ наше церковное устройство или отступавшемъ отъ общепринятаго образца въ своихъ сочиненіяхъ и произведеніяхъ духовнаго ораторства. А такъ какъ Прокоповичъ открыто высказывалъ свое неуваженіе къ отживающимъ идеаламъ схоластической науки и выработавшимся на юго-западѣ образцамъ схоластическаго духовнаго краснорѣчія, такъ какъ, кромѣ того, онъ и вообще являлся въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ скорѣе свѣтскимъ, чѣмъ духовнымъ писателемъ, то, конечно, нельзя и удивляться тому, что обвиненія въ приверженствѣ къ «ученіямъ кальвинскимъ и лютеранскимъ» сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Не только не нравилась его простая манера говорить проповѣди, придавая имъ скорѣе общественный, нежели церковный характеръ, но еще болѣе не нравилось то, что онъ указывалъ, какъ именно слѣдуетъ говорить проповѣди и старался всѣхъ свести со стараго, избитаго и неправильнаго пути на новую дорогу: Ѳеофанъ, въ статьѣ «Духовнаго Регламента» о проповѣдникахъ и въ отдѣльномъ сочиненіи о проповѣди 1), указываетъ на св. писаніе, какъ на главный источникъ проповѣди, изъ котораго проповѣдникъ долженъ былъ почерпать основу ея, стараясь истолковать тексты св. писанія самостоятельно, вникая въ глубокій смыслъ ихъ и принимая за образецъ духовнаго краснорѣчія слова Іоанна Златоуста, а не тѣхъ «казнодѣишковъ 2) легкомысленныхъ, каковые наипаче польскіе бываютъ». «Проповѣдывали-бы проповѣдники твердо, съ доводомъ св. писанія, о покаяніи, о исправленіи житія, о почитаніи властей, паче же о самой высочайшей власти царской, о должностяхъ всякаго чина. Истребляли-бъ суевѣріе, вкореняли-бъ въ сердца людскія страхъ Божій. Словомъ рещи: испытывали-бы отъ св. писанія, что есть воля Божія, святая, угодная и совершенная, и то говорили-бы».
1) Сочиненіе это озаглавлено такъ: «Вещи и дѣла, о которыхъ духовный учитель народу христіанскому проповѣдовати долженъ».
2) Казнодѣй — «дѣющій казанья», т. е. с_л_а_г_а_ющ_і_й к_а_з_а_н_ь_я (проповѣди); иначе п_р_о_п_о_в_ѣ_д_н_и_к_ъ.
Этотъ новый образецъ проповѣдей, которому и онъ самъ старался слѣдовать, существенно отличался по направленію и настроенію своему отъ проповѣдей юго-западныхъ, слагавшихся преимущественно подъ вліяніемъ польско-католическихъ образцовъ. Ѳеофанъ въ шутку называлъ «л_а_т_ы_н_щ_и_к_а_м_и» московскихъ и кіевскихъ приверженцевъ этого направленія проповѣди и весьма рѣзко осуждалъ то произвольное, натянутое развитіе тэмы, избранной для проповѣди, ту искусственность въ толкованіи текстовъ и то переполненіе проповѣди символическими и аллегорическими прикрасами, которыя составляли главное характеристическое отличіе южно-русской проповѣди. «Что сказать о нашихъ л_а_т_ы_н_щ_и_к_а_х_ъ?» — такъ пишетъ Ѳеофанъ въ письмѣ къ одному изъ своихъ друзей. "Если, по милости Божьей, въ ихъ головахъ найдется нѣсколько богословскихъ трактатовъ и отдѣловъ, выхваченныхъ когда-то какимъ-нибудь славнымъ іезуитомь изъ какихъ-нибудь твореній схоластическихъ, эпископскихъ, языческихъ, плохо сшитыхъ, попавшихъ въ ихъ потѣшную кладовую быть можетъ не изъ самаго источника, неудовлетворительныхъ и плохихъ, и хуже того искаженныхъ — то ужъ наши латынщики воображаютъ себя такими мудрецами, что для ихъ знанія ничего уже не осталось. Дѣйствительно, они все знаютъ, готовы уже отвѣчать на всякій вопросъ и отвѣчаютъ «такъ самоувѣренно, такъ безстыдно, что ни на волосъ не хотятъ подумать о томъ, что говорятъ: они думаютъ о себѣ, что проглотили цѣлый океанъ премудрости. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ были въ модѣ такъ называемые ораторскіе пріемы, церковныя каѳедры оглашались тогда — увы! — чудными хитросплетеніями, напримѣръ: что значатъ пять буквъ въ имени Маріи? Почему Христосъ погружается въ Іорданѣ стоя, а не лежа и не сидя? Почему въ водахъ великаго потопа не погибли рыбы, хотя не были сохранены въ ковчегѣ Ноевомъ? — и многое тому подобное. И давались на подобвые вопросы отвѣты, важные и солидные… Потомъ настала другая болѣзнь: — нынѣ всѣ мы, какъ ты видишь, болѣемъ теологіею. О, если бы во всѣхъ возбудилась жажда знанія и изученія! Тогда была бы надежда, что изъ тьмы возсіяетъ истина; но иное, какъ мы видимъ, совершается на дѣлѣ: — всѣ стремятся учить и почти никто не хочетъ учиться».
При такомъ направленіи, при такой рѣзкой разницѣ во взглядахъ, при постоянной и непреклонной приверженности Ѳеофана къ Петровымъ реформамъ, которыя онъ безусловно защищалъ и оправдывалъ, Ѳеофанъ, тотчасъ по смерти Петра, при которомъ пользовался огромною властью и значеніемъ, увидѣлъ себя окруженнымъ неумолимыми врагами, которые неспособны были затрудняться никакими средствами и никакими соображеніями, лишь бы погубить этого «ересіарха». Ѳеофанъ, лишенный возможности проводить идеи реформы въ обществѣ, постоянно истощаемый мелкою борьбою и раздражаемый мелкими интригами своихъ враговъ, увидѣлъ себя вынужденнымъ къ тому, чтобы биться противъ нихъ ихъ же собственнымъ оружіемъ. Онъ увидѣлъ себя, послѣ смерти Петра (1725 г.), совершенно одинокимъ, понялъ, что ему "не могли помочь ни его знанія, ни его дарованія, и вотъ онъ кинулся въ дрязги интригъ и происковъ, которыми такъ богата наша исторія той эпохи. Должно сознаться, что онъ на этомъ поприщѣ представляется уже не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ являлся, какъ сподвижникъ Петра, и въ настоящее время многіе останавливаются на дѣятельности Ѳеофана этого рода и по ней только произносятъ строгій приговоръ ему. Долгъ справедливости побуждаетъ насъ однакоже напомнить, что Прокоповичъ, послѣ 1725 г., жилъ въ такую «эпоху, когда каждый, мало-мальски значительный, человѣкъ считалъ благоразуміемъ, въ видахъ собственнаго самосохраненія, слѣдовать правилу: губи другихъ, иначе эти другіе тебя погубятъ» 1).
1) Пекарскій. Наука и литерат. I, 332.
Враги Ѳеофана неутомимо пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы повредить ему во мнѣніи наслѣдниковъ Петровыхъ, заваливали «тайную канцелярію» доносами на него, какъ на еретика, какъ на вреднаго въ нравственномъ отношеніи человѣка; и вотъ, Ѳеофанъ, защищая себя, въ свою очередь дѣлается доносчикомъ, обвиняетъ враговъ своихъ въ противуправительственныхъ стремленіяхъ, въ государственной измѣнѣ, въ склонности къ мятежамъ и бунтамъ… и многіе изъ противниковъ его, особеннно въ тягостную эпоху б_и_р_о_н_о_в_щ_и_н_ы, привлекаются, по доносамъ Прокоповича, въ страшную «тайную канцелярію» и подвергаются той участи, которой они такъ неудержимо и рьяно стремились подвергнуть своего искуснаго и хитраго врага, не даромъ прошедшаго іезуитскую школу, тоньше ихъ понимавшаго людей и духъ своего непривлекательнаго времени. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Ѳеофанъ выказалъ здѣсь очень много темныхъ сторонъ своего характера; но не слѣдуетъ забывать, что борьба его съ противниками не была только простою личною борьбою, изъ-за ничтожныхъ жизненныхъ интересовъ, и велась имъ не только вслѣдствіе побужденій инстинкта самосохраненія… Враги Ѳеофана, по большей части, олицетворяли собою старое направленіе общественное, уже и до Петра отжившее свой вѣкъ, стремились къ прежнимъ распорядкамъ, требовали возврата къ старинѣ; съ озлобленіемъ смотрѣли на усиленье свѣтской власти въ ущербъ духовной, послѣ уничтоженія патріаршества. Такіе защитники старины должны были неизбѣжно пасть жертвами новаго порядка вещей, который олицетворялся въ Ѳеофанѣ и находилъ себѣ выраженіе въ его литературной и общественной дѣятельности. Если борьба Ѳеофана съ противниками и принимала такой мрачный и отталкивающій характеръ нескончаемыхъ доносовъ, подпольной борьбы и процессовъ, кончавшихся часто застѣнкомъ тайной канцеляріи и ссылкою въ Сибирь, то виною этому въ значительной степени было то хаотическое, переходное состояніе тогдашняго общества, въ которомъ бродили самые разнородные, и притомъ никѣмъ не направляемые элементы, и въ средѣ котораго открывался полный просторъ для игры несдерживаемыхъ страстей, честолюбія, интригъ. «Чтобы судить объ этомъ безпристрастно» — справедливо замѣчаетъ одинъ изъ біографовъ Ѳеофана, — «нужно имѣть въ виду тѣ обстоятельства, въ которыхъ находился Ѳеофанъ во все время своей жизни, по смерти Петра I (т. е. отъ 1725—1736 годъ). Онъ одинъ выносилъ на плечахъ своихъ введенныя Петромъ въ русскую церковь преобразованія. Извѣстно, что имъ (въ послѣдующія царствованья) угрожала самая печальная судьба. Оберегая себя, Ѳеофанъ оберегалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и общее церковное дѣло. Къ чести его надо сказать, что онъ, при противныхъ обстоятельствахъ, не перемѣнилъ своихъ убѣжденій: при Екатеринѣ I, Петрѣ II и Аннѣ онъ все тотъ же, что былъ и при Петрѣ I… И нельзя не признать, что только благодаря своему обширному, гибкому и изворотливому уму, Ѳеофанъ могъ не только самъ уцѣлѣть и сохранить свое преобладающее значеніе во время смутъ, волновавшихъ государство и церковь нашу въ первой половинѣ прошлаго вѣка (когда погибли Меньшиковы, Долгоруковы, Голицыны, Остерманы и многое множество другихъ лицъ), н_о и с_б_е_р_е_ч_ь д_ѣ_ло П_е_т_р_а о_т_ъ п_о_с_т_о_я_н_н_о г_р_о_з_и_в_ш_а_г_о е_м_у у_н_и_ч_т_о_ж_е_н_і_я 1).
1) Ч_и_с_т_о_в_и_ч_ъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время; стр. 576 и 577.
Какъ бы кто ни старался преувеличить темную сторону характера и дѣятельности Ѳеофана, особенно въ послѣднюю эпоху его жизни, на Ѳеофана оказывается совершенно невозможно смотрѣть только съ одной точки зрѣнія тѣхъ интригъ и процессовъ, въ которыя онъ былъ запутанъ тягостною необходимостью. Это было бы почти также несправедливо, какъ и тотъ взглядъ на Ѳеофана, по которому онъ будто бы являлся въ своихъ сочиненіяхъ обличителемъ и гонителемъ старыхъ порядковъ только изъ угожденія Петру. Не слѣдуетъ забывать, что еще будучи безвѣстнымъ преподавателемъ философіи и богословія въ Кіевѣ, Ѳеофанъ уже читалъ такія лекціи, которыя враги его потомъ ославили опасными, говоря, что въ нихъ заключалось „н_о_в_о_е“ ученіе; не слѣдуетъ забывать и того, что и не бывъ еще призванъ къ осуществленію самыхъ реформъ царя, Ѳеофанъ уже не щадилъ въ своихъ насмѣшкахъ невѣжества, прикрытаго внѣшнимъ глубокомысліемъ, ханжества и лицемѣрія 1). Вообще личность Ѳеофана является на столько крупною и замѣчательною, на столько выдается изъ ряда всѣхъ сподвижниковъ Великаго Преобразователя, что на нее невозможно заставить себя смотрѣть только съ одной, извѣстной точки зрѣнія. Характеристика Ѳеофана — на сколько мы успѣли ознакомить съ его личностью и дѣятельностью — была бы далеко неполною, если бы къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ нами о Ѳеофанѣ, объ одномъ изъ первыхъ ученыхъ мужей нашихъ начала XVIII вѣка, мы наконецъ не добавили бы хотя нѣсколько словъ о характерѣ Ѳеофана, какъ частнаго человѣка, насколько его характеръ проявлялся въ отношеніяхъ къ современникамъ, стоявшимъ въ тѣсной связи съ нимъ по его общественной дѣятельности.
1) П_е_к_а_р_с_к_і_й. Наука и литерат., стр. 781.
Какъ ученый, Ѳеофанъ пользовался въ свое время весьма обширною и вполнѣ заслуженною извѣстностью. Постоянно занятый, въ сѵнодѣ, по церковному управленію, Ѳеофанъ посвящалъ всѣ свои досуги занятіямъ научнымъ, и, кромѣ вышеупомянутыхъ сочиненій, намъ отъ него осталось много ученыхъ трудовъ, какъ богословскихъ, такъ и историческихъ. Къ числу ученыхъ трудовъ его нельзя не отнести и той постоянной переписки, въ которой онъ состоялъ, въ теченіе всей своей жизни, со многими изъ германскихъ и англійскихъ ученыхъ и богослововъ. Подъ руководствомъ Ѳеофана, по его указанію или побужденію, переводились на русскій языкъ многія классическія иностранныя сочиненія, и многіе ученые иностранцы находили себѣ въ немъ поддержку. Неудивительно, что нѣкоторые изъ нихъ оставили намъ о немъ не только почтительные, но и восторженные отзывы. Такъ, напримѣръ, одинъ нѣмецкій путешественникъ, фонъ-Гавенъ, посѣтившій Петербургъ въ началѣ 1736 года, говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Ѳеофанѣ: „по знаніямъ своимъ у него мало или почти нѣтъ никого равныхъ, особенно между русскими духовными. Кромѣ исторіи, богословія и философіи, у него глубокія свѣдѣнья въ математикѣ и неописанная охота къ этой наукѣ. Онъ знаетъ разные европейскіе языки, изъ которыхъ на двухъ говоритъ, хотя въ Россіи не хочетъ употреблять никакого, кромѣ русскаго, и только въ крайнихъ случаяхъ объясняется на латинскомъ, въ которомъ не уступитъ любому академику. По гречески и еврейски онъ также понимаетъ хорошо и въ самой глубокой старости прилежитъ къ нимъ, оказывая особенное предпочтеніе тѣмъ, кто знакомъ съ этими языками. Много разныхъ полезныхъ книгъ изданы по русски при его содѣйствіи и поощреніи. Кромѣ того, многіе надѣялись одно время, что при помощи Ѳеофана будетъ издана вся библія на русскомъ и славянскомъ языкахъ и съ примѣчаніями. Ѳеофанъ особенно вѣжливъ и услужливъ со всѣми иностранными литераторами и вообще иноземными“.
Другой иностранецъ, Сигфридъ Байеръ, бывшій въ числѣ первыхъ профессоровъ при основанной въ Петербургѣ академіи наукъ, посвящая Ѳеофану Прокоповичу одно изъ сочиненій своихъ въ 1730 г., писалъ между прочимъ: „хотя васъ занимаютъ теперь несравненно важнѣйшія заботы, однако вы никогда не возобновляете въ памяти занятій древностями безъ того, чтобы онѣ вамъ не доставили пріятнаго о нихъ воспоминанія, а во мнѣ не возбуждали удивленія. Мнѣ казалось, что я нахожусь въ Греціи и въ тамошнихъ поэтическихъ и риторскихъ или философскихъ школахъ, всякій разъ, какъ только вы начинали о нихъ рѣчь. Я часто смотрѣлъ на васъ, какъ на нѣкоего Климента или Кирина, или Евсевія, когда вы опровергали басни древнихъ народовъ или нелѣпѣйшія мнѣнія философовъ; точно также, вы какъ будто вводили меня въ Римъ или въ какой другой городъ Италіи, славный священными или гражданскими памятниками. Съ какимъ удовольствіемъ я слушалъ васъ всякій разъ, когда вы описывали мнѣ памятники древняго времени, которые вы видѣли въ Римѣ и прочей Италіи, и въ особенности состояніе учености, и разсказывали о прочихъ вашихъ путешествіяхъ, и о своемъ, такъ сказать, курсѣ въ занятіи науками. Какое разнообразіе и обиліе! Какая память о вещахъ въ повѣствованіи, какая сила въ размышленіи и какая воспріимчивость духа, соединенныя съ величайшею важностью, какая легкость въ изъясненіи, какая способность въ разсужденіи и какое изящество какъ римскаго, такъ и итальянскаго языка! Какая наконецъ пріятность и грація во всей рѣчи, во всемъ“.
Съ величайшимъ сочувствіемъ относился Ѳеофанъ къ ново-учрежденной академіи, къ ея дѣятельности и той пользѣ, которую ей надлежало принести русскому просвѣщенію. Вообще Ѳеофанъ всею жизнью своею оправдывалъ то, что самъ же сказалъ въ „Духовномъ Регламентѣ“: „прямымъ ученіемъ просвѣщенный человѣкъ никогда сытости не имѣетъ въ познаніи своемъ, но не перестаетъ никогда же учиться, хотя бы онъ Маѳусаиловъ вѣкъ пережилъ“. И дѣйствительно, среди всѣхъ своихъ занятій, среди всѣхъ дрязгъ и хлопотъ, которыми онъ былъ постоянно отвлекаемъ отъ дѣла, Ѳеофанъ все же не только самъ не отставалъ отъ занятій наукою, но и другимъ всѣми силами помогалъ учиться и просвѣщать себя. Большими трудами и значительными издержками успѣлъ онъ собрать у себя въ домѣ библіотеку въ 30,000 томовъ, по большей части дорогихъ и рѣдкихъ изданій, и весьма охотно давалъ изъ нея книги всѣмъ, въ комъ видѣлъ стремленіе къ занятію науками. Сверхъ того, въ 1721 году онъ основалъ въ своемъ загородномъ архіерейскомъ домѣ школу для сиротъ и бѣдныхъ дѣтей всякаго званія. Въ школѣ преподавали: законъ Божій, славянское чтеніе, русскій, латинскій и греческій языки, грамматику, реторику, логику, римскія древности, ариѳметику, геометрію, географію, исторію и рисованіе. Какъ только стало извѣстно, что для образованія русскихъ молодыхъ людей учреждается при академіи гимназія, Ѳеофанъ тотчасъ же обратился къ назначенному президентомъ академіи лейбъ-медику Блюментросту, и просилъ его принять въ эту гимназію нѣсколько молодыхъ людей, подготовленныхъ въ его домашней школѣ, которая, по своему времени, являлась лучшимъ приготовительнымъ учебнымъ заведеніемъ во всей Россіи, тѣмъ болѣе, что въ ней преподаваніемъ занимались многіе изъ профессоровъ академіи и иностранныхъ ученыхъ.
О личномъ характерѣ Ѳеофана одинъ изъ иностранныхъ біографовъ его сохранилъ намъ самыя привлекательныя свѣдѣнія; онъ говоритъ между прочимъ, что Ѳеофанъ охотно принималъ у себя иностранцевъ православнаго исповѣданья — грековъ, славянъ, венгровъ, поляковъ, грузинъ — странниковъ съ Ливана и Аѳона, несчастныхъ, потерявшихъ имущество безъ собственной вины, вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, и потому нуждавшихся въ его помощи, — также художниковъ и студентовъ, ищущихъ пособія, которыхъ рекомендовалъ знатнымъ русскимъ, испрашивая помощи, и которымъ самъ помогалъ щедрой рукой и отпускалъ, снабдивши всѣмъ необходимымъ для жизни. Огромныя средства, которыми онъ располагалъ, давали полный просторъ его щедрости. Но онъ не могъ равнодушно видѣть ханжей, суевѣровъ, святошъ, лицемѣровъ — преслѣдовалъ ихъ всячески и подвергалъ наказаніямъ».
Весело, открыто и пышно жилъ Ѳеофанъ въ своемъ загородномъ архіерейскомъ домѣ, который былъ построенъ на берегу рѣчки Карповки, впадающей въ Неву, на Аптекарскомъ островѣ. Передъ домомъ его, на рѣчкѣ, стояла цѣлая флотилія рѣчныхъ, крупныхъ и малыхъ гребныхъ и парусныхъ судовъ, на которыхъ онъ часто совершалъ по рѣкѣ и по взморью довольно далекія поѣздки въ другіе загородные дома свои, объ устройствѣ и содержаніи которыхъ онъ очень заботился, такъ какъ его до конца жизни не оставляла страсть къ постройкамъ. Здѣсь-то, въ тишинѣ своего роскошнаго уединенія, окруженный сокровищами книжными и сокровищами искусства, которыя онъ собиралъ въ теченіе всей своей жизни, Ѳеофанъ, по окончаніи дневныхъ своихъ занятій, любилъ принимать и пышно угощать избранный кружокъ друзей и близкихъ знакомыхъ своихъ. Являясь радушнымъ хозяиномъ въ кругу близкихъ людей, онъ бывалъ неоцѣненнымъ собесѣдникомъ въ спорахъ и разсужденіяхъ о предметахъ серьезныхъ, а когда приходилось мѣшать шутку съ дѣломъ, то проявлялъ такое тонкое и замѣчательное остроуміе, что собесѣдники съ жадностью ловили и старались запоминать его изреченія, его латинскія и русскія эпиграммы и шутливыя стихотворенія, которыхъ много сохранилось и до настоящаго времени. Къ кружку такихъ-то близкихъ Ѳеофану людей принадлежали всѣ передовые дѣятели его времени, и изъ числа русскихъ писателей — Кантемиръ и Татищевъ. Когда въ 1729 году молодой князь Антіохъ Кантемиръ написалъ первую сатиру свою на «хулящихъ ученіе», то Ѳеофанъ тотчасъ же оцѣнилъ ее по достоинству и привѣтствовалъ начинающій талантъ слѣдующимъ ободрительньтмъ посланіемъ:
Не знаю, кто ты, пророче рогатый,
Знаю, великой достоинъ ты славы.
Да почто-жъ было имя укрывати?
Знать тебѣ страшны сильныхъ глупцовъ нравы?
Плюнь на ихъ грозы. Ты блаженъ трикраты.
Благо, что Богъ далъ умъ тебѣ здравый.
Пусть весь міръ будетъ на тебя голосливый,
Ты и безъ счастія довольно счастливый.
Объемлетъ тебя Аполлонъ великій,
Любитъ всякъ, кто есть таинствъ его зритель,
О тебѣ поютъ пернасскіе лики.
Всѣмъ честнымъ сладка твоя добродѣтель,
И будетъ сладка въ будущіе вѣки,
А я нынѣ сущій твой любитель.
Но сіе за верхъ славы твоей буди,
Что тебя злые ненавидятъ люди.
А ты, какъ началъ тещи путь преславный,
Коимъ книжны текли исполины,
И перомъ смѣлымъ мещи порокъ явный
На нелюбящихъ ученой дружины;
И разрушай всякъ обычай злонравный,
Желая доброй въ людяхъ премѣны.
Кой плодъ ученый не единъ искуситъ,
А дураковъ злость языкъ свой прикуситъ.
Что же касается Татищева, то онъ оставилъ намъ самые лестные отзывы о Ѳеофанѣ, какъ ученомъ и какъ человѣкѣ, и въ свой знаменитой «духовной» сыну совѣтуетъ читать наравнѣ съ твореніями знаменитыхъ отцовъ и учителей церкви сочиненія Ѳеофана Прокоповича, «истолкованіе десяти заповѣдей и блаженствъ, которые за катихизисъ, а малый букварь — за лучшее нравоученіе служить могутъ». Татищевъ былъ друженъ съ Ѳеофаномъ, хотя и расходился съ нимъ во многихъ мнѣніяхъ и взглядахъ на вещи, и ихъ отношенія служатъ лишь еще однимъ доказательствомъ той общительности и той терпимости къ людямъ, которыя составляли одну изъ замѣчательнѣйшихъ чертъ характера въ Ѳеофанѣ, какъ представителѣ русскаго просвѣщенія начала XVIII вѣка. Не даромъ разсказываютъ о немъ современники, что любимою поговоркою его было: ,,uti boni vini non est quaerenda regio, sic nec boni viri religio et patria" 1).
1) «Нечего допытываться о добромъ вbнѣ, изъ какой страны оно происходитъ, точно также и о добромъ человѣкѣ — какой онъ вѣры и откуда родомъ».
Ѳеофанъ скончался въ загородномъ домѣ своемъ, что на Карповкѣ, 8-го сентября 1736 года, на 55-мъ году жизни, сохранивъ до послѣдней минуты полное сознаніе. Тѣло его было отвезено въ Новгородъ и погребено въ Софійскомъ соборѣ, въ южной сторонѣ его, подлѣ тѣла Іова митрополита. Имѣніе свое завѣщалъ Ѳеофанъ дѣтямъ, воспитывавшимся въ его домовой школѣ, прося «дать имъ способы продолжать образованіе, и поручить ихъ людямъ, достойнымъ довѣрія, пока они сами придутъ въ совершенный возрастъ и разумъ». Библіотека его передана была въ 1740 году въ невскую семинарію, что при Александро-невской лаврѣ, а инструменты (глобусы, сферы, солнечные часы) въ академію наукъ.
Въ заключеніе всего, сказаннаго нами о Ѳеофанѣ, нельзя не замѣтить, что онъ представляетъ собою въ исторіи нашей литературы, науки и просвѣщенія, въ началѣ XVIII в., явленіе во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательное. Замѣчателенъ Ѳеофанъ не только обширнымъ умомъ своимъ, блестящими познаніями и горячимъ рвеніемъ къ дѣлу реформы, которыми всецѣло посвятилъ всю жизнь и дѣятельность свою: онъ можетъ быть еще болѣе замѣчателенъ своею полнѣйшею отрѣшенностью отъ всѣхъ старыхъ русскихъ духовно-литературныхъ преданій, своею самостоятельностью, независимостью отъ нихъ, вслѣдствіе которой, несмотря на свой духовный санъ, не смотря на свою богословскую и церковно-административную дѣятельность, онъ все же является п_е_р_в_ы_м_ъ н_а_ш_и_м_ъ с_в_ѣ_т_с_к_и_м_ъ п_и_с_а_т_е_л_е_м_ъ въ многознаменательную эпоху преобразованій. Петръ Великій, могучею волею своею, разграничилъ область власти духовной и свѣтской, возвысилъ значеніе литературы и науки, избавивъ ихъ отъ тягостной, исключительной опеки духовенства и монашества, указалъ свѣтской литературѣ ея новый путь… Ѳеофанъ, ближе всѣхъ стоявшій къ Петру и лучше всѣхъ умѣвшій понимать его замыслы, первый вступилъ на этотъ новый путь, перенося на почву чисто-свѣтскую такіе литературные роды, которые до того времени составляли исключительное достояніе литературы духовной, догматической. Такимъ образомъ Ѳеофанъ олицетворилъ собою наступленіе новаго, свѣтскаго періода въ литературѣ нашей и то направленіе, которое, подъ вліяніемъ Петра, Ѳеофанъ придавалъ литературѣ современной, было такъ опредѣленно, такъ сообразно съ потребностями времени, что новые дѣятели литературные, созданные реформой, неизбѣжно должны были ему послѣдовать.

Періодъ первый. — Отъ начала письменности до Татарщины.
правитьГлава I. Братья-первоучители. — Болгарское вліяніе. — Кириллица и глаголица. — Письменный матерьялъ и писцы. — Древнѣйшій памятникъ русской письменности
Глава II. Первые шаги грамотности. — Первые опыты литературные. — Лука Жидята. — Илларіонъ. — Обзоръ твореній Ѳеодосія Печерскаго, Никифора и Кирилла Туровскаго
Глава III. Изборники. — Монастырская литература. — Житія святыхъ и лѣтопись. — Несторъ
Приложенія къ главѣ III: 1) Отрывки изъ Несторова житія Ѳеодосія, игумена Печерскаго. 2) Отрывки изъ повѣсти времянныхъ лѣтъ по Лаврентьевскому списку ХІV вѣка. 3) Отрывокъ изъ южно-русской лѣтописи, случайно занесенный въ лѣтопись кіевскую, по Лаврентьевскому списку. 4) Отрывокъ южно-русской лѣтописи по Ипатьевскому списку (конца ХІV в. или начала XV в.).
Глава IV. Успѣхи образованноcти на Руси. — Религіозное направленіе образованія. — Первыя попытки создать литературу свѣтскую: поученіе Мономаха и посланіе Даніила Заточника
Глава V. Свѣтская литература въ XI вѣкѣ. — Слово о полку Игоревѣ, какъ памятникъ дружиннаго эпоса
Приложенія къ главѣ V: 1) Изъ «Повѣсти времянныхъ лѣтъ». (Первый походъ князей на Половцевъ.) 2) Походъ Игоря Сѣверскаго на Половцевъ. (Отрывокъ южно-русской лѣтописи по Ипатьевскому списку.) 3) «Слово о полку Игоревѣ» — въ переводѣ А. Н. Майкова.
Періодъ второй. — Отъ Татарщины до временъ Грознаго.
правитьГлава VI. Татарщина. — Выгодное положеніе духовенства. — Проповѣдь; лѣтописи, сборники. — Переводы съ греческаго. — Свѣдѣнія о природѣ. — Споры «о раѣ земномъ»
Приложенія къ главѣ VI: Посланіе архіепископа новгородскаго Василія ко владыкѣ тверскому Ѳеодору.
Глава VII. Лѣтописныя повѣсти и сказанія. — Рязанское сказаніе о нашествіи Батыя. — Задонщина
Приложенія къ главѣ VII: Пѣснь про боярина Евпатія Коловрата, въ изложеніи Л. Мея.
Глѵва VIII. XV вѣкъ. — Проповѣдь политическая. — Вассіанъ, архіеписконъ ростовскій. — Полемическое направленіе духовной литературы. — Іосифъ Волоцкой и Нилъ Сорскій
Глава IX. Монастырская литература на сѣверо-востокѣ Руси. — Житія и духовныя сказанія. — Авторы и собиратели житій; ихъ воззрѣнія и способъ изложенія матерьяла
Приложенія къ главѣ IX: 1) Житіе Петра, царевича Ордынскаго (въ изложеніи профессора Буслаева). 2) Муромское сказаніе о князѣ Петрѣ и Ѳевроніи (въ изложеніи профессора Буслаева
Глава X. Свѣтская литература: повѣсти и сказки. — Восточное и византійско-славянское вліяніе. — Пересажденіе иноземныхъ сказаній на русскую почву
Приложенія къ главѣ X: 1) Повѣсть о Басаргѣ-купцѣ (въ изложеніи; Н. А. Полевого). — 2) Соломонъ и Китоврасъ.
Глава XI. Апокрифическія сказанія и ихъ вліяніе на литературу народную: духовные стихи и духовныя пѣсни
Приложенія къ главѣ XI: 1) Хожденіе Богородицы по мукамъ. — 2) Стихъ о книгѣ Голубиной. — 3) Стихъ о Егоріи Храбромъ.
Періодъ третій. — Отъ временъ Грознаго до половины XVII вѣка.
правитьГлава XII. Мракъ невѣжества и ереси. — Западное вліяніе: Максимъ Грекъ и его дѣятельность. — Стоглавъ, какъ результатъ дѣятельности Максима Грека. — «Домострой» попа Сильвестра и макарьевскія «Четьи-Минеи»
Глава XIII. Начало книгопечатанія въ Россіи. — Краткій обзоръ исторіи книгопечатанія въ Славянскихъ земляхъ. — Наши первопечатники. — Важнѣйшіе памятники нашей печати
Глава ХІV. Свѣтская литература въ XVI вѣкѣ; Іоаннъ Грозный и его сочиненія. — Характеръ и литературная дѣятельность князя А. М. Курбскаго; его переписка съ Грознымъ. — Первые опыты прагматической исторіи. — Іоаннъ Грозный и народъ
Приложенія къ главѣ ХІV: 1) Никитѣ Романовичу дано село Преображенское. — 2) Мастрюкъ Темрюковичъ.
Глава XV. Зарожденіе новаго образованія на юго-западѣ Руси въ XVI вѣкѣ. — Важное значеніе кіевскихъ ученыхъ въ исторіи нашего просвѣщенія и литературы. — Успѣхи образованности въ XVII вѣкѣ: школы и учебники
Глава XVI. Невѣжество и справщики. — Первыя школы въ Москвѣ. — Котошихинъ и Крижаничъ. — Никонъ. — Юго-западные ученые въ Москвѣ. — Московская славяно-греко-латинская академія
Приложеніе къ главѣ XVI: 1) Отрывки изъ житія Аввакума, имъ самимъ написаннаго. 2) Ученый диспутъ въ XVII вѣкѣ: споръ Л. Зизанія съ московскими справщиками.
Періодъ четвертый. — Отъ половины XVII вѣка до эпохи преобразованій.
правитьГлава XVIІ. Историческая литература на сѣверо-востокѣ Руси въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка. — Новыя литературныя начала, внесенныя въ Москву кіевскими учеными. Страсть къ виршамъ; виршеслагатели
Приложенія къ главѣ XII: 1) Посланіе Каріона Истомина царевнѣ Софіи, въ ко-торомъ онъ проситъ о введеніи наукъ въ Россіи. 2) Вирши С. Полоцкаго: Богъ-Всевидецъ. — Купецтво.
Глава XVIII. Мистерія въ западной Европѣ и въ Польшѣ. — Духовная драма въ Москвѣ. — «Пещное дѣйство» и другія. — Первыя сценическія представленія на европейскій ладъ. — Духовныя драмы С. Полоцкаго и Дмитрія Ростовскаго
Глава XIX. Повѣсть въ XVII вѣкѣ. — Рыцарскіе романы въ русскихъ переводахъ; смѣхотворныя повѣсти. — Попытки создать самостоятельную русскую повѣсть; два главныхъ ея направленія. — Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ
Приложеніе къ главѣ XIX: Повѣсть ѳ Горѣ-Злосчастьѣ (текстъ).
Глава XX. Народная поэзія въ XVII вѣкѣ: былины, историческія пѣсни, духовные стихи. — Вліяніе, оказанное расколомъ на поэзію народную
Приложеніе къ главѣ XX: Историческія пѣсни и духовные стихи XVII вѣка.
Эпоха преобразованій.
правитьГлава XXI. Наука, образованіе и литература при Петрѣ. — Усиленная типографская дѣятельность. — И. Т. Посошковъ
Глава XXII. Ѳеофанъ Прокоповичъ. — Годы ученія и странствованій. — Дѣятельность профессорская. — Сближеніе съ Петромъ. — Духовный Регламентъ. — Ѳеофанъ, какъ общественный дѣятель. — Ѳеофанъ, какъ ученый и литераторъ. — Ѳеофанъ, какъ частный человѣкъ
1) Семейство великаго князя Святослава — древнѣйшая русская рукописная миніатюра
2) Образецъ уставнаго почерка, изъ Остромирова Евангелія
3) Образецъ глаголицы, изъ Реймскаго Евангелія
4) Древнѣйшая надгробная надпись (996 г.), писанная кириллицею
5) Древній соборъ Св. Софіи въ Новѣгородѣ (по фотографіи)
6) «Пишущій монахъ» — рисунокъ, приложенный къ Кёнигсбергскому списку древней лѣтописи
7) Образецъ полуустава, по рукописи XIV вѣка
8) Образецъ скорописи, по рукописи XVII в.
9) Графъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ
10) Образецъ уставной рукописи XIV вѣка съ заголовками, писанными вязью
11) Троице-Сергіевская лавра, близь Москвы
12) Видъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря
13) Одинъ изъ видовъ тайнописи
14) Различные виды вязи въ припискахъ къ рукописямъ
15) Подпись митрополита Макарія
16) Образецъ древнихъ крюковыхъ нотъ
17) Образецъ древней надписи на камнѣ
18) Образцы каллиграфіи XVII вѣка
19) Видъ древняго печатнаго двора въ Москвѣ
20) Послѣсловіе Краковскаго Октоиха — старѣйшей изъ печатвыхъ книгъ славянскихъ
21) Гербъ Г. А. Хоткевича, печатанный на его изданіяхъ. — Гербъ города Львова. — Гербъ Ивана Ѳедорова
22) Гербъ князя К. К. Острожскаго, на его изданіяхъ
23) Видъ развалинъ замка князя К. К. Острожскаго
24) Іоаннъ Грозный
25) Гербъ Курбскихъ
26) Петръ Могила
27) Никонъ
28) Скитъ Никона въ Воскресенскомъ монастырѣ
29) Валдайскій Иверскій монастырь
30) Типографская башня въ Валдайскомъ монастырѣ
31) Подпись Никона
32) Печатный гербъ Никона
33) Споръ Лаврентія Зизанія съ московскими справщиками (миніатюра рукописи XVII вѣка)
34) Симеонъ Полоцкій
35) Подписи руки С. Полоцкаго и С. Медвѣдева
36) Св. Дмитрій Ростовскій
37) Вавилонская пещь новгородскаго Софійскаго собора
38) Текстъ и рисунокъ старопечатнаго изданія комедіи о Блудномъ сынѣ
39) Подпись св. Дмитрія Ростовскаго
40) Видъ Соловецкаго монастыря
41) Саардамскій домикъ Петра Великаго (въ заголовкѣ)
42) Портретъ Петра Великаго
43) Подпись Петра Великаго
44) Ѳеофанъ Прокоповичъ
45) Подпись Ѳеофана Прокоповича
863. Братья-первоучители отправляются въ Моравію.
865. По преданію, годъ изобрѣтенія св. Кирилломъ азбуки славянской.
869. Смерть св. Кирилла-первоучителя.
892—927. Вѣкъ царя Симеона Болгарскаго.
1036. Лука Жидята поставленъ епископомъ новгородскимъ.
1051. Илларіонъ поставленъ митрополитомъ Кіевскимъ.
1056—1057. Годъ написанія Остромирова Евангелія.
1062. Ѳеодосій Печерскій избранъ въ игумны.
1093. Несторъ приходитъ въ обитель Кіево-Печерскую.
1091. Нестору поручено отыскать мощи св. Ѳеодосія Печерскаго.
1104—1121. Никифоръ — митрополитъ кіевскій.
1113. Послѣдній годъ, упоминаемый въ Повѣсти времянныхъ лѣтъ.
1122. Битва съ татарами при Калкѣ. Упоминаются убитые въ битвѣ богатыри: Алеша Поповичъ со слугою Торопомъ, Добрыня, и другихъ богатырей семьдесятъ.
1182. Около этого года умираетъ Кириллъ Туровскій.
1188. Около этого года лѣтописецъ упоминаетъ объ Ильѣ Муромцѣ.
1215. Симонъ, монахъ Кіево-Печерскій, поставленъ епископомъ владимірскимъ. Ум. въ 1226 г.
1274. Серапіонъ поставленъ въ епископы владимірскіе изъ архимандритовъ кіево-печерскихъ. Ум въ 1275 г.
1330—1352. Время управленія архіепископа Василія новгородскою паствою. «Посланіе о раѣ» написано около 1350 г.
1380. Куликовская битва.
1400. Посланіе св. Кирилла Бѣлозерскаго къ великому князю Василію Дмитріевичу.
1440—1515. Жизнь и дѣятельность Іосифа Санина, игумена Волоколамскаго монастыря.
1480. Соборное посланіе духовенства на Угру, къ Іоанну III; посланіе къ нему же Вассіана, архіепископа Ростовскаго.
1480—1556. Жизнь и дѣятельность Максима Грека. Пріѣзжаетъ въ Россію въ 1518 году. Обвиненъ въ ереси и осужденъ на соборѣ 1525 г.
1485—1504. Дѣятельность Геннадія, архіепископа новгородскаго.
1492. Годъ, въ который всѣ ожидали кончины міра и втораго пришествія.
1499. Составленіе перваго полнаго списка Библіи (Геннадіемъ въ Новгородѣ).
1503. Соборъ, на которомъ поднятъ вопросъ о земляхъ и селахъ монастырскихъ. Іосифъ Санинъ (онъ же и Волоцкой, и Нилъ Сорскій)
1504. Ересь жидовствующихъ осуждена на соборѣ.
1542. Макарій, архіепископъ новгородскій возведенъ въ санъ митрополита московскаго. Макарьевскія «Четьи-Минеи».
1548. Царь Іоаннъ Васильевичъ выписываетъ изъ Германіи типографщиковъ.
1551. Стоглавый соборъ.
1563—99. Переписка Іоанна Грознаго съ Курбскимъ.
1564. 1-го марта сего года окончено печатаніе первой русской книги (Дѣянія апостольскія и соборныя посланія апостола Павла).
1565. Вторая печатная русская книга (Часовникъ).
1580. Князь К. К. Острожскій заводитъ въ Острогѣ первое высшее православное училище.
1581. Первая полная славянская Библія, напечатанная въ Острогѣ Иваномъ Ѳедоровымъ.
1589. Кіевское братство учреждаетъ подобное острожскому училище при церкви Богоявленія.
1591. Студенты Львовскаго братскаго училища издаютъ грамматику эллино-славянскую.
1596. Торжественное провозглашеніе Уніи.
1596. Лаврентій Зизаній издаетъ первую славянскую грамматику. Вскорѣ послѣ того Мелетій Смотрицкій, архиепископъ полоцкій, издаетъ вторую грамматику славянскую, которая была въ 1648 г. перепечатана въ Москвѣ и удержалась въ русскихъ школахъ до Ломоносова.
1599—1646. Жизнь и дѣятельность Петра Могилы.
1631. Братское училище въ Кіевѣ преобразуется въ «Кіево-Могилянскую Коллегію».
1633. Патріархъ Филаретъ заводитъ первое высшее училище при Чудовомъ монастырѣ, подъ названіемъ «Чудовской или Греко-Латинской школы».
1639. Иванъ Дорнъ и Богданъ Лыковъ, по указу Государеву, переводятъ полную космографію съ латинскаго языка.
1639. Ученому голштинцу, Адаму Олеарію, дана опасная грамата на пріѣздъ въ Россію.
1642—52. Патріаршество Іосифа, во время котораго русскія печатныя книги подвергаются значительной порчѣ и важнымъ искаженіямъ.
1645. Пріѣздъ Крижанича въ Москву.
1649. Бояринъ Ртищевъ основываетъ училище при Андреевскомъ монастырѣ и рѣшается вызвать для обученія юношества нѣкоторыхъ кіевскихъ ученыхъ.
1652. Никонъ возведенъ въ санъ патріарха.
1654—56. Соборы по поводу исправленія книгъ; новыя книги печатаются, а старыя отбираются.
1656—76. Мятежъ въ Соловецкомъ монастырѣ и осада монастыря.
1660. Крижаничъ, по неизвѣстной причинѣ, сосланъ въ Сибирь.
1665. Пріѣздъ С. Полоцкаго въ Москву.
1666—67. Окончена Котошихинымъ книга «О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича».
1670--1726. Жизнь и дѣятельность И. Т. Посошкова.
1672. С. Полоцкій назначенъ воспитателемъ къ царевичу Ѳеодору Алексѣевичу.
1672. (30 мая). Рожденіе Петра Великаго.
1672. Я. Г. Грегори и бояринъ Матвѣевъ собираютъ первую русскую труппу изъ мѣщанскихъ дѣтей.
1678. Выходятъ въ свѣтъ сочиненія С. Полоцкаго: Риѳмологіонъ и Вертоградъ Многоцвѣтный.
1679. Основаніе типографскаго училища.
1680. С Полоцкій переводитъ Псалтырь силлабическими виршами.
1681—1736. Жизнь и дѣятельность Ѳеофана Прокоповича.
1685. Основаніе духовной славяно-греко-латинской академіи въ Заиконоспасскомъ монастырѣ.
1685—1750. Жизнь и дѣятельность Татищева.
1690. Патріархъ Іоакимъ увѣщеваетъ Іоанна и Петра I — изгнать изъ Россіи всѣхъ иностранцевъ, какъ враговъ Божіихъ.
1697. Первое путешествіе Петра Великаго за границу.
1703. Первыя въ Россіи Русскія Вѣдомости.
Аввакумъ, протопопъ, противникъ Никона
Авраамій, иг. смоленскій (? 1221) и его поученія
Адріанъ II, папа
Азбука церковно-славянская (ея изобрѣтеніе и составъ)
Азбуковникъ
Академія Наукъ (проэктъ Петра)
Ангедаръ (одинъ изъ учениковъ св. Кирилла и Меѳодія)
Андроникъ Невѣжа, русскій печатникъ
Апокрифическія книги
Арсеній Глухой, инокъ
Болгарскій языкъ (что слѣдуетъ разумѣть подъ этимъ названіемъ?)
Бомбицына
Борисъ, болгарскій князь
Василій, еп. новгородскій, авторъ «Посланія о раѣ»
Вассіанъ, архіеп. ростовскій, и его посланія къ Іоанну III
Вассіанъ Косой (въ мірѣ бояринъ Патрикѣевъ)
Веніаминъ, доминиканецъ-сотрудникъ Геннадія
Вертоградъ Многоцвѣтный С. Полоцкаго
Вирши
Вязь
Галятовскій, Іоанникій
Геннадій, архіеп. новгородскій
Геннадіевскій (Синодальный) списокъ Библіи
Гизіель (Иннокентій) и его Синопсисъ
Глаголица
Гораздъ (одинъ изъ учениковъ св. Кирилла и Меѳодія)
Грегори (Готфридъ Іоганъ) магистръ
Грибоѣдовъ (дьякъ) и его Исторія
Григорій, дьяконъ (списатель Остромирова Евангелія)
Даніилъ Заточникъ
Даніилъ игуменъ и его хожденіе въ Іерусалимъ
Дмитрій Герасимовъ, переводчикъ посольскаго приказа
Домострой
Духовный Регламентъ
Духовныя драмы
Духовныя пѣсни или стихи
Дѣйство пещное и другія
Евфросинія, княжна Полоцкая
Епифаній Премудрый, составитель житій — инокъ Троице-Сергіевскаго монастыря
Жарты или смѣхотворныя повѣсти
Жезлъ правленія, соч. Симеона Полоцкаго
Житіе Бориса и Глѣба, соч. Несторомъ
Житіе протопопа Аввакума (автобіографія)
Житіе Ѳеодосія, соч. Несторомъ.
Житія святыхъ (различныя редакціи)
Задонщина вел. кн. Дмитрія Ивановича
Златая Матица
Златая Цѣпь (сборникъ)
Зоографъ, Дмитрій, переводчикъ
Иванъ Ѳедоровъ, первый русскій печатникъ
Изборники
Изборникъ Святославовъ
Илларіонъ, митрополитъ кіевскій
Интермедіи
Истоминъ, Каріонъ, и его посланіе
Исторія Казанскаго Царства, соч. I. Глазатаго
Исторія кн. великаго московскаго о дѣлѣхъ, соч. Курбскимъ
Исторія о россійскомъ дворянинѣ Фролѣ Скобѣевѣ
Исторія о Варлаамѣ и Іосафатѣ
Іоаннъ Грозный, какъ писатель .
Іосифъ Санинъ, игуменъ Волоколамскаго монастыря
Іосифляне (Осифляне)
Калики-перехожіе.
Кантемиръ
Кіево-Могилянская коллегія
Кипріянъ, сербъ, составитель житій святыхъ.
Кириллица
Кириллъ Св., по прозванію Философъ (братъ Меѳодія, первоучитель славянскій).
Св. Кириллъ (бѣлозерскій игуменъ) и его посланія
Кириллъ II, митроп. кіевскій (въ XIII в.) и его посланія.
Кириллъ, еп. Туровскій, жившійвъ концѣ XII в.
Климентъ (одинъ изъ учениковъ Кирилла и Меѳодія)
Книга о скудости и богатствѣ .
Комедія о блудномъ сынѣ
Комедійная хоромина
Котошихинъ, Григорій
Курбскій, кн. Андрей Михайловичъ
Лаврентій Зизаній.
Латинщики
Легенды или духовныя сказанія о святыхъ.
Лихуды, братья..
Лука Жидята, епископъ новгородскій (въ X в.)
Лѣтописи
Макарій, митрополитъ московскій, собиратель «Четьихъ-Миней»
Максимъ Грекъ..
Мелетій Смотрицкій
Меѳодій (братъ Кирилла, одинъ изъ первоучителей славянскихъ)
«Мірозданіе», поэма Георгія Писида
Мистеріи С. Полоцкаго
Михаилъ, императоръ византійскій (въ IX вѣкѣ)
Мусинъ-Пушкинъ, графъ А. И.
Наумъ (одинъ изъ учениковъ св. Кирилла и Меѳодія)
Несторъ, лѣтописецъ, инокъ Кіево-печерскаго монастыря
Никифоръ грекъ, митрополитъ кіевскій въ началѣ XII в.
Николай I, папа
Николай Святоша, кн. черниговскій
Никоновская лѣтопись
Никонъ, патріархъ
Нилъ Сорскій (изъ рода бояръ Майковыхъ)
Ожиданіе втораго пришествія
О Россіи въ царствованье Алексѣя Михайловича, соч. Котошихина
Острожская библія
Острожскій, Константинъ Константиновичъ, князь
Остромирово Евангеліе
Паисіевскій сборникъ
Памяти Алексѣя Адашева
Пасхальныя таблицы
Патерики
Пахомій Логофетъ, сербъ, сочинитель житій
Пекарскій, П. П., академикъ
Пергаменъ
Переводчики посольскаго приказа
Переписка Іоанна Грознаго съ Курбскимъ
Петръ Могила
Петръ Тимофеевъ Мстиславецъ, помощникъ Ивана Ѳедорова
Печатный дворъ
Пещь вавилонская
Писидъ, Георгій — авторъ «Мирозданій»
Писцы (скорописцы)
«Плачи»
Повѣсть времянныхъ лѣтъ, приписываемая Нестору
Повѣсть о Брунцвикѣ
Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ
Повѣсть о дѣяніи Девгеніевѣ
Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ
Повѣсть о Синагрипѣ, царѣ Адоровъ
Поликарпъ, инокъ кіево-печерскій
Полууставъ
Посланіе Геннадія къ митрополиту Симону объ устроеніи училища
Посланіе Іоанна Грознаго къ игумну Козьмѣ
«Посланіе о раѣ» — соч. Василіемъ, епископомъ новгородскимъ
Посланіе Даніила Заточника
Посланіе Никифора-митрополита, писанное для Владиміра Мономаха
Посошковъ, И. Т.
Поученіе дѣтямъ, соч. Вл. Мономахомъ
«Поученіе къ братіи», соч. Л. Жидятою
«Просвѣтитель», соч. Іосифа Волоцкаго (онъ же Санинъ)
Приписки писцовъ къ рукописямъ.
Пчелы (сборники антологическаго содержанія)
Пѣвцы княжескіе
Пѣсни о Грозномъ
Риѳмологіонъ — Симеона Полоцкаго
Рукописаніе Магнуша, короля свѣйскаго
«Русское государство въ половинѣ XVII вѣка», соч. Крижанича
«Рязанское сказаніе о нашествіи Батыя»
Савва (одинъ изъ учениковъ св. Кирилла и Меѳодія)
Санииъ, Іосифъ
Серапіонъ, еп. владимірскій
Силлабическій стихъ
Сильвестръ Медвѣдевъ и его вирши.
Сильвестръ (попъ), авторъ «Домостроя»
Симеонъ, владыка новгородскій, и его поученіе Псковичамъ (XII в.)
Симеонъ Полоцкій
Симеонъ — царь болгарскій (въ концѣ IX в. и началѣ X)
Симонъ, еписк. владимірскій; его посланіе къ Поликарпу
Сказанія объ историческихъ лицахъ и событіяхъ
Сказаніе о великомъ кн. Александрѣ Невскомъ
Сказаніе о построеніи Кіево-печерскаго монастыря, соч. Симономъ, еписк. владимірскимъ.
Скоропись (древняя)
Синонсисъ, соч. Иннокентія Гизіеля
Скрижаль, соч. Симеона Полоцкаго
Слово нѣкоего христолюбца и ревнителя
Слово объ Акирѣ Премудромъ
Слово о Динарѣ царицѣ
«Слово о законѣ и о благодати», соч. Илларіономъ митрополитомъ
Слово о купцѣ Басаргѣ
Слово о полку Игоревѣ
Соломонъ и Китоврасъ
Списокъ съ суднаго дѣла Леща съ Ершомъ
Статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, соч. митрополитомъ Кипріаномъ
Стихъ о книгѣ Голубиной
Стихъ о Егоріи Храбромъ
Стихъ о Вознесеніи Христовомъ
Стихъ о богатомъ и Лазарѣ
Татищевъ
Трость (каламъ), какъ орудіе для письма
Умильныя повѣсти
Уставъ (уставное письмо)
Физіологи (физилоги)
Хворостининъ (Иванъ), князь, и его книжка
Хоткевичъ, Г. А., гетманъ, покровитель русскихъ печатниковъ
Хронографъ
Царственный лѣтописецъ.
Цѣна рукописей.
Четьи-Минеи, сборникъ житій, составленный Макаріемъ
Чудеса (miracles) на средневѣковой сценѣ
Шемякинъ судъ
Шестодневъ Іоанна, экзарха болгарскаго
Шибановъ, слуга Курбскаго
Ярлыки ханскіе къ духовенству
Ѳеодоръ Еврей, сотрудникъ, Геннадія
Ѳеодосій, игуменъ печерскій
Ѳеофанъ Прокоповичъ