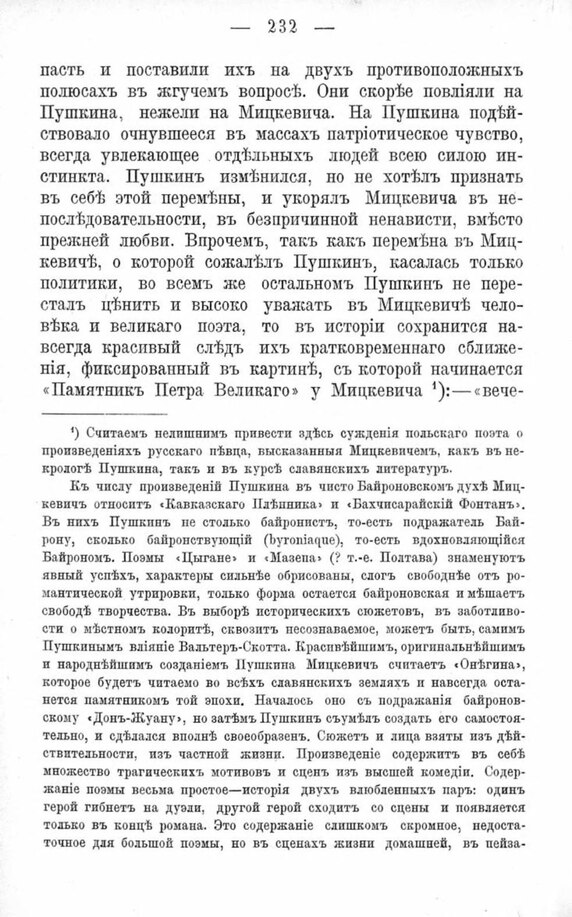пасть и поставили ихъ на двухъ противоположныхъ полюсахъ въ жгучемъ вопросѣ. Они скорѣе повлiяли на Пушкина, нежели на Мицкевича. На Пушкина подѣйствовало очнувшееся въ массахъ патріотическое чувство, всегда увлекающее отдѣльныхъ людей всею силою инстинкта. Пушкинъ измѣнился, но не хотѣлъ признать въ себѣ этой перемѣны, и укорялъ Мицкевича въ непослѣдовательности, въ безпричинной ненависти, вмѣсто прежней любви. Впрочемъ, такъ какъ перемѣна въ Мицкевичѣ, о которой сожалѣлъ Пушкинъ, касалась только политики, во всемъ же остальномъ Пушкинъ не пересталъ цѣнить и высоко уважать въ Мицкевичѣ человѣка и великаго поэта, то въ исторіи сохранится навсегда красивый слѣдъ ихъ кратковременнаго сближенія, фиксированный въ картинѣ, съ которой начинается «Памятникъ Петра Великаго» у Мицкевича[1]: — «вече
- ↑ Считаемъ нелишнимъ привести здѣсь сужденiя польскаго поэта о
произведеніяхъ русскаго пѣвца, высказанныя Мицкевичемъ, какъ въ некрологѣ Пушкина, такъ и въ курсѣ славянскихъ литературъ.
Къ числу произведеній Пушкина въ чисто Байроновскомъ духѣ Мицкевичъ относить «Кавказскаго Плѣнника и Бахчисарайскій Фонтанъ».
Въ нихъ Пушкинъ не столько байронистъ, то-есть подражатель Байрону, сколько байронствующій (byroniaque), то-есть вдохновляющийся
Байрономъ. Поэмы «Цыгане» и «Мазепа» (? т.-е. Полтава) знаменуютъ
явный успѣхъ, характеры сильнѣе обрисованы, слогъ свободнѣе отъ романтической утрировки, только форма остается байроновская и мѣшаетъ
свободѣ творчества. Въ выборѣ историческихъ сюжетовъ, въ заботливости о мѣстномъ колоритѣ, сквозить несознаваемое, можетъ быть, самимъ
Пушкинымъ вліяніе Вальтеръ-Скотта. Красивѣйшимъ, оригинальнѣйшимъ
и народнѣйшимъ созданіемъ Пушкина Мицкевичъ считаетъ «Онѣгина»,
которое будетъ читаемо во всѣхъ славянскихъ земляхъ и навсегда останется памятникомъ той эпохи. Началось оно съ подражанія байроновскому «Донъ-Жуану», но затѣмъ Пушкинъ съумѣлъ создать его самостоятельно, и сдѣлался вполнѣ своеобразенъ. Сюжетъ и лица взяты изъ дѣйствительности, изъ частной жизни. Произведеніе содержитъ въ себѣ
множество трагическихъ мотивовъ и сценъ изъ высшей комедіи. Содержаніе поэмы весьма простое—исторія двухъ влюбленныхъ паръ: одинъ
герой гибнетъ на дуэли, другой герой сходитъ со сцены и появляется
только въ концѣ романа. Это содержание слишкомъ скромное, недостаточное для большой поэмы, но въ сценахъ жизни домашней, въ пейза
жахъ, Пушкинъ нашелъ много мотивовъ, частью комическихъ, частью
трагическихъ и романическихъ. Пушкинъ не столь плодовитъ, какъ Байронъ, не столь богатъ, онъ не подымается столь высоко въ своемъ пареніи, не погружается столь глубоко въ сердце человѣческое, но онъ
правильнѣе Байрона, и отдѣлка формы у него старательнѣе. Дивный
слогъ его мѣняетъ ежеминутно видъ и цвѣтъ, отъ оды нисходитъ до
эпиграммы; попадаются часто сцены грандіозныя, почти эпическiя. Поэма
проникнута болѣе жгучею тоскою, чѣмъ въ произведеніяхъ Байрона.
Вскормленный романами, раздѣлявшій чувства своихъ друзей, молодыхъ
и порывистыхъ либераловъ, Пушкинъ испыталъ жестокое разочарованіе,
вслѣдствіе чего онъ охладѣлъ ко всему высокому и прекрасному на землѣ.
Начавъ писать свой романъ, вѣроятно, Пушкинъ не уяснилъ еще себѣ
его развязки, потому что онъ не былъ бы въ состоянии изобразить любовь молодыхъ людей съ такою чувствительностью, непосредственностью
и силою, если бы тогда же предполагалъ заключить романъ столь печально и прозаично. Въ Онѣгинѣ Пушкинъ изобразилъ самого себя:
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражаемая странность,
И рѣзкiй охлажденный умъ...Преобладающее въ Онѣгинѣ чувство есть ненависть къ тому, что считается модою, общественнымъ приличіемъ (le ton de la société).
Что касается до «Бориса Годунова», то Мицкевичъ не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, которые ставятъ это произведеніе на ряду съ Шекспировскими, но онъ уклоняется отъ объяснительной мотивировки своего сужденія. Ему кажется, что Пушкинъ былъ слишкомъ еще молодъ для созданiя историческихъ личностей. Эта попытка показала только, чѣмъ онъ могъ стать со временемъ: «Et tu Shakespeare eris, si fata sinant»! По этой драмѣ нельзя вполнѣ оцѣнить талантъ Пушкина, хотя и въ ней есть много превосходныхъ деталей, дивныхъ сценъ. Въ особенности прологъ ея (Пименъ и Григорій—Келья въ Чудовомъ монастырѣ) столь своеобразенъ и грандіозенъ, что Мицкевичъ называетъ его единственнымъ въ своемъ родѣ.