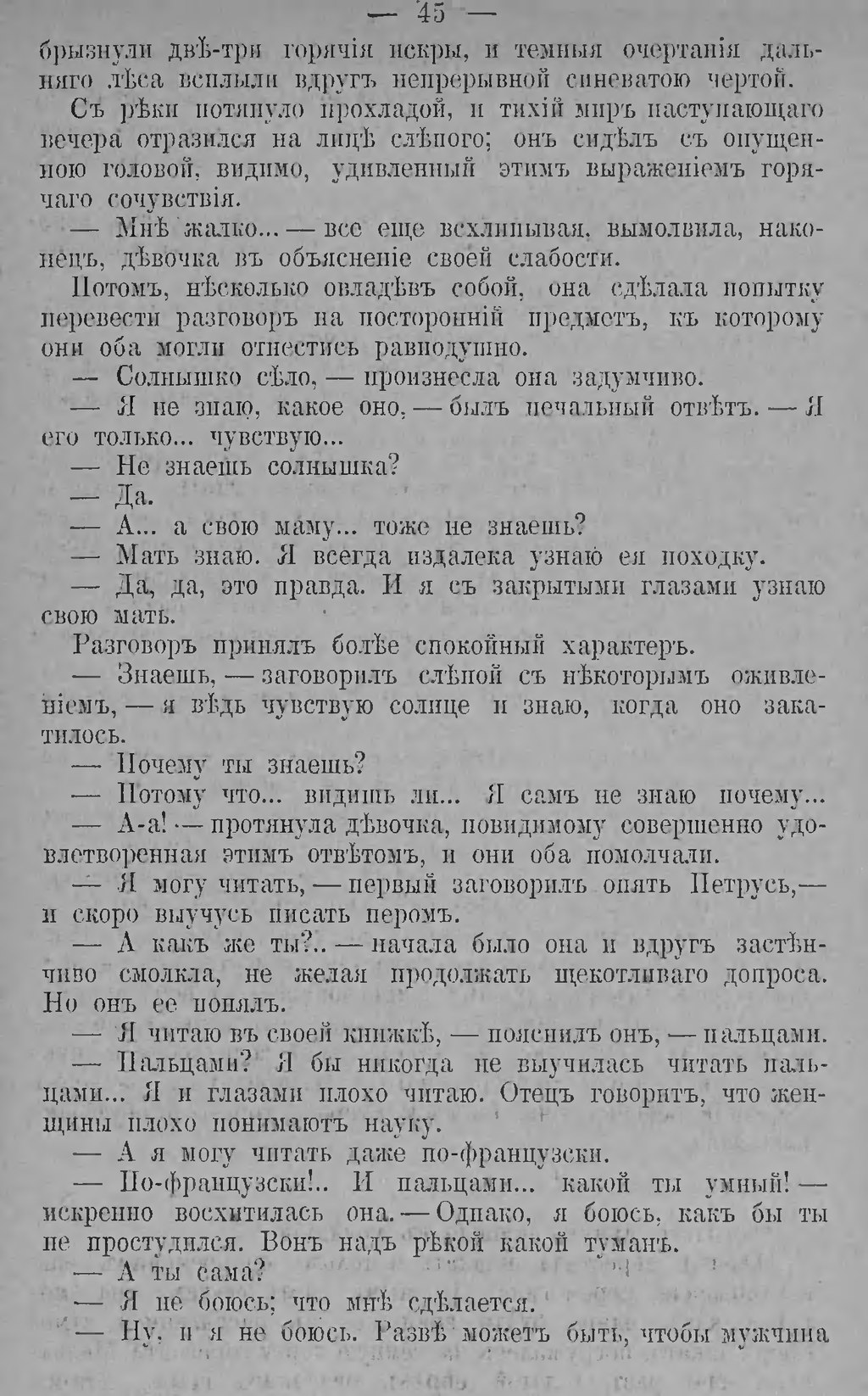брызнули двѣ-три горячія искры, и темныя очертанія дальняго лѣса всплыли вдругъ непрерывной синеватою чертой.
Съ рѣки потянуло прохладой, и тихій миръ наступающаго вечера отразился на лицѣ слѣпого; онъ сидѣлъ съ опущенною головой, видимо, удивленный этимъ выраженіемъ горячаго сочувствія.
— Мнѣ жалко…—все еще всхлипывая, вымолвила, наконецъ, дѣвочка въ объясненіе своей слабости.
Потомъ, нѣсколько овладѣвъ собой, она сдѣлала попытку перевести разговоръ на посторонній предметъ, къ которому они оба могли отнестись равнодушно.
— Солнышко сѣло,—произнесла она задумчиво.
— Я не знаю, какое оно,—былъ печальный отвѣтъ.—Я его только… чувствую…
— Не знаешь солнышка?
— Да.
— А… а свою маму… тоже не знаешь?
— Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ея походку.
— Да, да, это правда. И я съ закрытыми глазами узнаю свою мать.
Разговоръ принялъ болѣе спокойный характеръ.
— Знаешь,—заговорилъ слѣпой съ нѣкоторымъ оживленіемъ,—я вѣдь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.
— Почему ты знаешь?
— Потому что… видишь ли… Я самъ не знаю почему…
— А-а!—протянула дѣвочка, повидимому совершенно удовлетворенная этимъ отвѣтомъ, и они оба помолчали.
— Я могу читать,—первый заговорилъ опять Петрусь,—и скоро выучусь писать перомъ.
— А какъ же ты?..—начала было она и вдругъ застѣнчиво смолкла, не желая продолжать щекотливаго допроса. Но онъ ее понялъ.
— Я читаю въ своей книжкѣ,—пояснилъ онъ,—пальцами.
— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами… Я и глазами плохо читаю. Отецъ говоритъ, что женщины плохо понимаютъ науку.
— А я могу читать даже по-французски.
— По-французски!.. И пальцами… какой ты умный!—искренно восхитилась она.—Однако, я боюсь, какъ бы ты не простудился. Вонъ надъ рѣкой какой туманъ.
— А ты сама?
— Я не боюсь; что мнѣ сдѣлается.
— Ну, и я не боюсь. Развѣ можетъ быть, чтобы мужчина